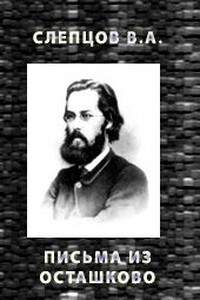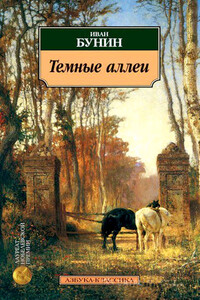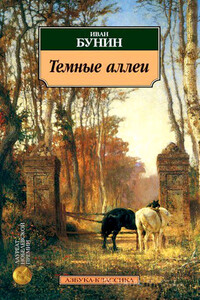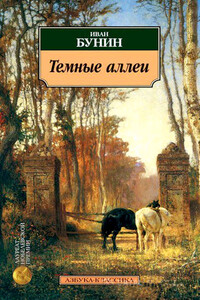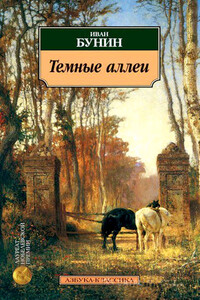Трудное время | страница 4
Родился Слепцов в Воронеже, 17 июля 1836 года, в семье тамбовского помещика, отставного полковника, участника турецкой (1828–1829) и польской (1831) кампаний. Из Польши он и привез себе жену, генеральскую дочь, урожденную Вельбутович-Паплонскую. Старики Слепцовы были разгневаны: мало того, что Жозефина оказалась бесприданницей, что по-русски говорила плохо и была некрасива, — она была католичкой! Результаты гнева не замедлили сказаться: при разделе имущества Алексея Слепцова обделили, «швырнув» ему захудалую деревушку в Саратовской губернии… Особенно не выносила невестку свекровь, и Василий Слепцов рассказывал Нелидовой, что в детстве у него был добрый гений — мать и злой — бабушка. Нервная обстановка в семье действовала на мальчика угнетающе и воспитывала в нем замкнутость, впоследствии перешедшую в застенчивость и скованность, которые особенно проявлялись в незнакомых компаниях… Рано возникла и развилась у мальчика наблюдательность — свойство, рождаемое впечатлительностью и ведущее к склонности обдумывать все, что привлекает внимание. Ранняя наблюдательность, как правило, обеспечивает раннее умственное созревание, и нет ничего удивительного в том, что отданный вначале во второй класс Первой московской гимназии (1847 г.), а затем (после переезда родителей из Москвы в имение отца) в третий класс Пензенского дворянского института (1849 г.) Василий Слепцов был одним из лучших учеников; но замкнутость его в новой обстановке, среди сверстников, не только не исчезла, но еще больше укрепилась, и однажды воспитанник дворянского института Василий Алексеев Слепцов решил не возвращаться в институт; будучи дома на каникулах. Поводом к такому решению послужила смерть отца, вызвавшая якобы необходимость принять хозяйство «на мужские плечи». Но хозяйством 14-летний юноша не занялся, а увлекся делом, более соответствующим его возрасту: он стал думать о смысле жизни. Нервный и возбудимый, он не останавливался на «золотых серединах» и, найдя смысл жизни и опору в религии, сделался религиозным до фанатизма. Он постился и «умерщвлял плоть»: голодал и носил на голом теле вериги — ржавую цепь от старых весов. Цепь сдирала кожу, на теле образовались язвы, но — «если любишь и веришь», то можешь стерпеть любые лишении и страдания. Осенью Василий вернулся в институт — духовно изменившийся; он стал добровольно прислуживать в институтской церкви. Но что-то мучило юношу, его пытливый ум не выдерживал однозначности религиозных догматов, и однажды (это случилось в 1853 году) судьба набожного воспитанника дворянскою института решительным образом изменилась. Вот как об этом рассказано в романе Л. Нелидовой: «В институтской домовой церкви шла обедня в один из больших праздников. Свиридов (так Нелидова назвала Слепцова. —