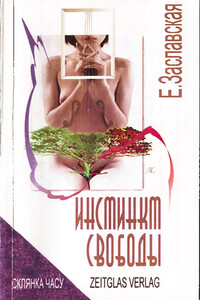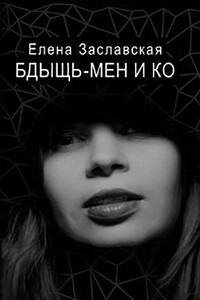Год войны | страница 8
Поэтому стихи лирики военного времени могут быть, по сути, о чем угодно, потому что они на самом деле всегда об одном и том же — о непостижимости, мимолетности, хрупкости и бесконечной ценности жизни. И все то, что здесь перечислено через запятую, самим поэтом переживается как единое, неразложимое целое, которое переживается как новый особый опыт и уже никогда не уходит потом из души, становясь ее внутренним ритмом и ее всегда живым сокровищем. Именно к этому виду военной поэзии относятся стихотворения Е. Заславской.
Когда автор говорит: «Мой язык развязала война» — это нельзя понимать в буквальном смысле, поскольку Е. Заславская уже известный поэт. Это нужно понимать метафизически — в том смысле, что только война заставила сказать такое, что без нее никогда не пришло бы на язык. И, как это ни странно на первый взгляд, после всех мучительных и страшных слов, брошенных в лицо неотступной смерти, конечным словом измаявшейся души становится вовсе не мука, а восторг перед чудом бытия:
И к Богу обращаются вот так, словами странными и пронзительными:
Так молятся, когда «стала черной кровь в людских сердцах» и поэтому «глядят глаза, будто две воронки» — в это «черное лето».
А поэзия рождается из чувства кровного единства своей личной судьбы и судьбы Родины: «Во имя новорожденных республик. / Заметки на полях весны / И революции, объединившей наши судьбы. / Здесь ломоть развалившейся страны, / Который Родиной зовем и я и ты».
В стихотворении «Где теперь герои?» анонимность погибших вдруг оборачивается обобщающим образом всенародного подвига и духовного преображения наших бессмертных душ: «В глазах свет мира горнего, / А губы обескровлены, / Ни имени, ни номера, / Никто не знает, кто они. / Они войдут в историю. / В историю народную...»
Поэт проникновенно чувствует то состояние, в котором находится боец — вчера еще мирный человек, не успевший пока привыкнуть в войне, но уже готовый на все — и на подвиг, и на гибель: «Только бы не в плен. / Один патрон в обойме. / Сим-карта за щекой, / Давно взведен курок». Е. Заславской, как мне кажется, удалось дать очень емкую поэтическую «формулу» того мироощущения, которое охватило наш народ — и тех, кто на фронте, и тех, кто в тылу, — как единое живое целое. Эти строки очень близки по стилю и по типу образности классике военной лирики О. Берггольц. Заславская пишет: