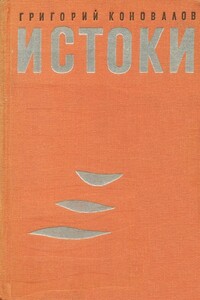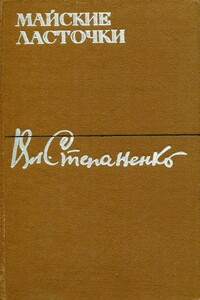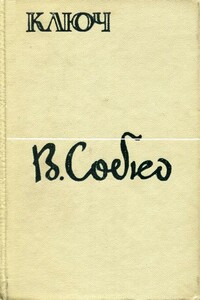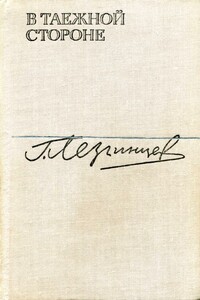Московская история | страница 30
И оно началось. «Оно» — я имею в виду наше счастье. Ибо жизнь, просто жизнь, и есть счастье. Я это утверждаю теперь. Особенно теперь, когда нить в моих руках чуть не оборвалась…
…Сирень я поставила в вазочку на стол, Женя, пофыркав под водопроводным краном, явился к завтраку в самом беззаботном обличье. Оказывается, в нашем дачном хозяйстве накопилось достаточное количество неполадок и дыр, с которыми не справиться и за две ближайшие пятилетки. Лестницу на чердак лучше не трогать. В подполе неизвестная сука завела щенят и в знак этого события рычит и блещет глазами. Соседские ребятишки в видах урожая предусмотрительно повалили возле малинника забор. А то самое заведение пора чистить. Должно быть, его охотно посещают прохожие.
Все это означало, заявлял мой муж, что мы начнем наконец ездить на нашу дачу регулярно по «викэндам», чего не делали последний десяток лет; а возможно, и застрянем здесь на весь отпуск, вместо того чтобы катить в Карловы Вары или Пицунду. Хватит, хватит. Погуляли.
— Пора пожить по-человечески, — соглашалась я.
«Боже мой, — думала я. — А ведь, в самом деле, есть такая блаженная жизнь, со всеми этими дырами в заборе и малинниками. И она может быть радостью и покоем, и многие мечтают об этом. Для них это даже вершина, ради которой они соглашаются долгие годы ходить на работу, выносить тяготы труда — ради удовольствия владеть таким собственным уголком, где можно скрыться, отдохнуть от борьбы, столкновений, усилий, от тесноты человеческих скоплений. Но для Жени тут не вершина, а дно. Сюда он отодвинут, здесь обделен болью и стремлением, лишен участия в делах решающих, крупных, важных. Сможет ли он?.. Кто создан для одной судьбы, тому невыносимо тяжко принимать из рук жизни другую. Не знаю. Не верю его безмятежности. Боюсь».
Над сиренью жужжала, принюхиваясь, толстенькая пчела-разведчица. Наш подвальный солист заткнулся, приступив, очевидно, к трапезе. День был слишком хорош, чтобы какой-то мотоциклист, ошалев от воздуха и тишины, не вскочил на свой адский агрегат и не начале треском носиться по проулкам, выманивая себе подобных на состязание.
Глава третья
Любовь
…Жене было двадцать три года, когда он начал работать мастером в стекольном цехе. Производство тяжелое, горячее, капризное. Но Женя туда мчал по утрам с таким выражением лица, будто его зачислили в Большой театр главным лебедем. И он там порхает под звуки Чайковского целую смену, весь в розах и бутонах. Окруженный стеклодувами — явными херувимами, — которые запросто «выдувают» план, а в обеденный перерыв занимаются рукоплесканиями своему новому обожаемому мастеру. Такое у меня создавалось впечатление.