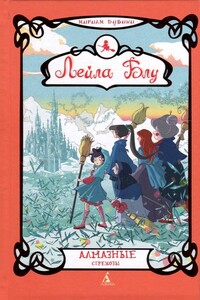Келе | страница 4
— Человек…
И опять они молча стояли рядом. Вдоль дороги по направлению к мельнице тянулись повозки, иной раз резко разносился над водой свист хлыста, но людские голоса и крики вскоре потонули в мягкой, как солома, тишине угасающего лета, а два аиста все стояли друг подле друга.
— Вся стая в сборе, — сказала аистиха.
Старый аист только кивнул головой. Вся стая в сборе, а он не ощущает позыва к перелету. Не чувствует зова дальних краев, как это бывало прежде. Крошечные кусочки свинца, засевшие в крыле, словно порвали что-то: порвали нить, влекущую в бескрайние просторы, порвали неудержимое стремление взмыть ввысь, а вместо этого внушили аисту осторожность.
Когда подруга его улетела, старый аист тоже взмахнул крыльями и как ни в чем не бывало направился к лугу. Но во время полета он внимательно прислушивался к собственным ощущениям. Воздух с одинаковой ласковостью поглаживал оба крыла, но одно было здоровым, а другое — больным. И к этому больному и прислушивался внимательно старый аист — словно второго крыла и не было, — и боль подсказывала ему: «Нет, не вытянуть!»
По лугу он расхаживал с остальными птицами. Выискивая корм, охотился, как и прочие, но теперь каждое его движение было иным, не таким, как прежде. Каждое движение его упиралось в те крошечные кусочки свинца и говорило аисту: «Нет, не вытянуть!»
Это знал и он сам, это знали и остальные птицы. Они не смотрели на аиста, не приглядывались к нему, но он невольно выделялся среди них, потому что они стали ему чужие и он сделался для них чужаком. Одиночкой. Правда, аист старался набить желудок поплотнее и после охоты опять присоединился к остальным. Отчужденность осталась, но поддаваться этому чувству нельзя. К вечеру он первым поднялся в воздух, а за ним тотчас и все семейство последовало к гнезду на ночевку. Полет аиста, по-прежнему ровный, не выдавал его, а пока ему удается летать, как прежде, он — глава семьи.
Уныло сидели на ветках старый аист и аистиха, а птенцы, рассевшись вокруг гнезда, с любопытством оглядывались по сторонам. Сумерки, пропитанные августовским теплом и пылью, сонно клонились к вечеру. Мельницу со всех сторон обступили телеги; вода у запруды была темной и прогретой.
Пора жатвы подошла к концу; каждый получил от природы свою долю, равную проделанному труду, и мельничные жернова урчали равномерно, точно большая, мягкая кошка, предвкушая долгую зимнюю передышку от дел.
Недвижно сидели аисты вокруг гнезда, на старом тополе и лист не колыхнулся, но и птенцы, и аистиха чувствовали, что аист-отец не разделяет пробудившейся в них тяги к перелету. Старый аист был здесь, рядом с ними, и все же он сделался каким-то чужим и далеким; участь его достойна жалости, но и жалости к нему они не испытывают, потому что слабее и слабее становятся связующие их узы.