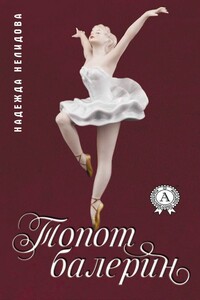Рыбка по имени Ваня | страница 19
Напиши да напиши от себя дочке письмо, ныла бабка. Хорошее, строгое, внушительное. Так, мол, и так. Неправильную, нехорошую жизнь ведёте. Мама из-за вас плачет — ночей не спит — а она ведь не вечная, мама-то, старенькая. В любую минуту брык — и в ямку. Сердце у неё за вас рвётся, кровью обливается.
Машка вздохнула, села писать. Перечитала начало, обрадовалась: как гладко, рассудительно, по-взрослому получилось. Умно, толково, спокойно.
И дальше уже, войдя во вкус, уверенно, нравоучительно продолжала: дескать, возьмитесь за ум, возвращайтесь под матушкино крыло в родимый дом. А то пропоёте-пропляшете лето красное, как стрекоза из басни Крылова, которую мы проходили в начальной школе. Какой пример советской женской гордости подаёте нам, подрастающему поколению…
Бабке тоже очень понравилось письмо. Отнесли на почту и стали ждать ответа, как соловей лета.
Однажды утром Машка проснулась — а над ней портрет со стены. Живой. Лицо горит холодным, алым зимним огнём. Гневом сверкают чёрные звёзды, надломлены бархатные брови.
Морозно серебрится чернобурка, в воздухе витает нездешним, обалденным запахом. Французскими духами, голубыми туманами, ещё чем-то… Нездешней, обалденной жизнью витает.
— Ах ты, маленькая дрянь! — с чувством, глубоким грудным голосом сказал портрет. — Да как ты смеешь мне указывать? Девчонка! Слухи собираешь? Старенькую маму мою против меня настраиваешь? Грязная сплетница! Собирай свои шмотки — и уматывай, шмакодявка!
Рукой в тугой душистой перчатке сдёрнула одеяло, обнажив страшненькую ветхую Машкину рубашонку. Махнула по столу — Машкины жалкие стишата взлетели и усеяли пол в избе.
Хитрая бабка болтала ножками на койке, смущённо, беззубо хихикала в кулачок, будто не при делах.
Униженная, опозоренная, раздавленная Машка тащилась к школьному интернату со своим сидором, набитым жалкой одёжкой и стихами. Вся измазалась в соплях, рыдая: от изумления, от несправедливости, от предательства, с которыми впервые столкнулась в жизни… Если бы умерла родная мать — и то Машка бы так не ревела.
Карточку хотела изорвать и выбросить, втоптать в сугроб. Рука не поднялась на милое, милое прелестное лицо…
Как же её звали, бабкину дочку? Люба? Вера? Надя? Не помнит — а ведь в девочках любимое имя не сходило с губ. Забылось, ах, всё забылось…
— Где та девочка? — плачет Маша. — Скажи, куда деваются чистые, доверчивые, худенькие девочки?! Что с ними делает жизнь?
Утром Маша снова будет разбитной, свойской бабищей и ужасной сквернословкой. Будет требовать ледяной минералки, потому что во рту у неё «сухотэ-алинь». Будет громоподобным басом хохотать, разбирая записки с телефонами и любовными признаниями…