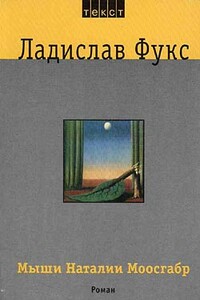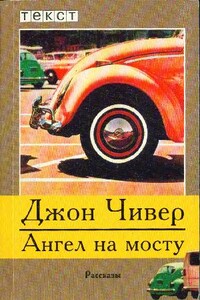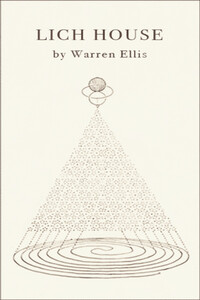Наследие: Книга о ненаписанной книге | страница 22
То, как Лотта принимала отзывы о книге, заставило меня вспомнить эти высказывания, и я спросил себя, объяснялся ли сегодняшний ее стоицизм новыми изгибами ее характера. Возможно, я стремился к большей близости с Лоттой, желая разделить с ней свое негодование по поводу внешнего мира, который знал о книге гораздо меньше, чем мы с ней; а может быть, я хотел попробовать, что значило это «мы», мерцающее в перспективе, теперь, когда нам предстояло приступить к новому большому роману. В любом случае ее веселость вызывала во мне скорее гнев, нежели восторг, и в одно прекрасное утро, не подозревая, как зол на нее и переполнен раздражением, я высказал ей, что не верю в ее холодное равнодушие к язвительным замечаниям критиков; что, бичуя таких, как Этти Хиллесум с их отречением от жизненных благ, она сама демонстрирует присущий им аскетизм, и что, скорее всего, такое безразличие к критике объясняется ее болезнью.
Первоначальное удивление в ее взгляде сменилось любопытством.
«Ого, Макс, я и не знала, что ты можешь быть таким разъяренным», — широко улыбаясь, сказала она с восхищением в голосе.
Но прежде чем я успел опомниться, выражение ее лица снова изменилось: снисходительная улыбка уступила место печали, появились глубокие морщины, которых я раньше не замечал. Я тут же пожалел о том, что наговорил ей. Она увидела это, покачала головой и сделала успокаивающий жест, желая меня разубедить и выиграть время, чтобы прийти в себя.
«Прости», — сказал я, как только она успокоилась.
«Не нужно извиняться, — ответила она. — То, что ты говоришь, задевает меня за живое, нет, скорее то, о чем ты молчишь. Со мной, наверно, сложно общаться, особенно тебе. Ты считаешь, будто мне все равно, что ты обо мне подумаешь, но это не так. От этого нельзя откупиться. Не могу тебе передать, как меня волнует, что кто-то еще, как бы это сказать, желает моей любви, что ли?»
Отвечая на ее полувопрос, я собрался было встать и обнять ее, но она указала жестом, чтобы я продолжал сидеть.
«Не сейчас, Макс, — сказала она мягко. — Затворник неприкасаем».
Передо мной на экране появились первые фразы из Сэмюэля Беккета, которые в августе 1983 года она продистиллировала из «Моллоя». Их смысл почти не доходил до меня. Я все еще вспоминал лицо Лотты, неожиданно омраченное грустью, и на душе у меня было неспокойно: я хотел оказаться рядом с ней и сделать для нее что-нибудь хорошее.
«Обожаю Беккета, — сказала она как-то. — Никто другой не может так рассмешить рассказами о нищете».