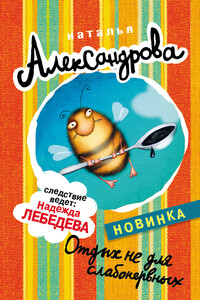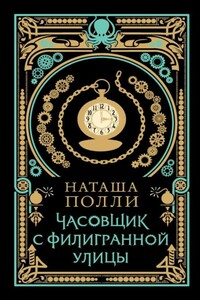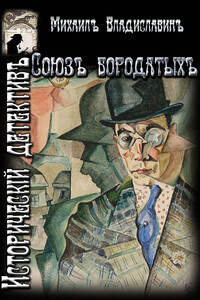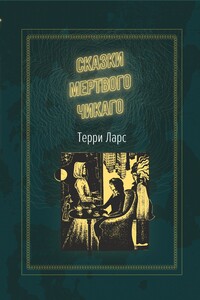Батумский связной | страница 42
— Вы позволите?
Борис буркнул что-то нечленораздельное, что было воспринято как разрешение, и к нему за столик подсел субъект с жалкими остатками благородного происхождения на давно не мытом и давно не трезвом лице.
— Официант! — махнул он рукой. — Водки!
Борис чуть поморщился и слегка отодвинулся от соседа — не слишком сильно, чтобы этой демонстрацией не оскорбить его чувств, — мало ли, еще нарвешься на неприятности.
Сосед демонстрации не заметил, но, получив ожидаемую водку, по всегдашней русской привычке захотел поговорить.
— Я вижу в вас русского человека, — начал он издалека, — в этом густопсовом городе вокруг одни азиаты… Турки, персы, греки, итальянцы…
— Какие же итальянцы азиаты? — не утерпел Борис, хотя и понимал, что ответить соседу — большая ошибка: теперь уж точно привяжется.
— Азиаты-с! Как есть азиаты! Я вам больше скажу: даже и англичане здесь — азиаты! Потому только блюдут свою густопсовую азиатскую коммерцию. А мы с вами — русские люди! И место нам — в России! Там сейчас великое очищение происходит, Армагеддон, можно сказать. Россия наша кровью умывается… Как сказал поэт: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!» А мы с вами здесь, в этой густопсовости азиатской.
— Что вы мне-то проповедь читаете? Ехали бы сами в Россию, коли так не терпится причаститься святых тайн!
— И поеду! — Лицо соседа загорелось лихорадочным нетрезвым энтузиазмом. — И непременно поеду! Поправлю только свое изношенное здоровье — и тут же поеду!
Борис хотел было сказать, что нищета и пьянство не слишком способствуют поправлению здоровья, но решил не усугублять ответной репликой нездорового красноречия своего соседа. Тому, однако, ничего и не требовалось — уж тем был доволен, что рядом с ним кто-то есть, и завелся пуще прежнего:
— Я ведь всю жизнь так в народ верил! И богоносец-то он, народ наш, и подлинной правды хранитель… А в восемнадцатом году разъяснили мне пьяные матросы да дезертиры всю эту подлинную правду… Как только жив остался — ума не приложу… Говорят, двум смертям не бывать, а одной — не миновать, так вот я в восемнадцатом четырьмя смертями умирал, четыре раза воскрес. И после этого моего четвертого воскресения попал я к каким-то новым бандитам, а у них главный — старичок такой сухонький, с маленькими глазками. Так вот выстроили перед ним всех, кого банда его поймала, а старичок ходит перед пленными и что-то себе под нос шепчет, а потом на меня пальцем указал: «Порите его, ребятушки, крахмальный его воротничок!» Как уж он после тифа, после четырех моих смертей, после того, как меня дезертиры в землю живого закопали, — как он после всего этого разглядел крахмальный воротничок — ума не приложу. Видимо, какое-то у него уже чутье развилось, классовое, что ли, чутье и классовая ненависть. И видел же, мерзавец, что я и без него бит-порот, убит-расстрелян, похоронен и обратно выкопан, что места на мне живого нет, так все ему мало показалось: порите его, ребятушки. Может, и вправду — такие грехи на меня предки мои навесили, что и четырьмя смертями мне их не искупить?