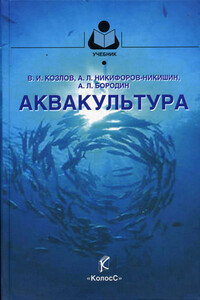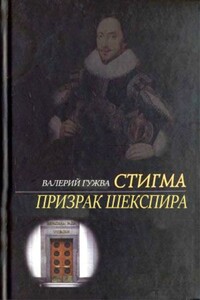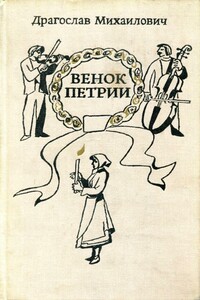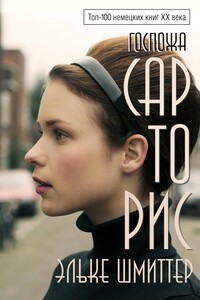Рассекающий поле | страница 98
И Сева набил кулаки.
Он научился не задавать лишних вопросов и не лезть никому в душу. Он никогда ни у кого ничего не спрашивал, не просил совета, пресекал поучения и бесплатные рекомендации. Он знал, как разговаривать с людьми и уходить от их влияния, как молча идти к маленькой цели, не умея оценить того, что вообще имеется возможность идти к цели. Он как-то выучил и принял, что никто ему ничем не обязан: общество не обязано его искать и занимать, друг не обязан дружить, любимая – любить, родители – оберегать. Изначально, как в математической задачке, ничего не дано. Сева был новый, только-только народившийся вид. Вид, лишенный исторических травм. Он вызрел там, где мерцало звенящее марево, а ребенок сидел на корточках на обочине грунтовой дороги и неторопливо выковыривал семечки из свежесорванного на чужом поле подсолнуха. Броня этой бессобытийности защитила его, не дала бросить в топку слабым и незрелым. А быть глупцом не так страшно.
В школе не было коллектива, ученики общались по два-три человека. Класс был моделью нового общества, где нужно уметь договариваться, чтобы не вести войну против всех. Если кто-то не умел говорить так, чтобы всем остальным не хотелось его заткнуть, никто ему не сочувствовал, когда дело доходило до расправы – моральной, а если надо, то и физической. О многих своих одноклассниках по окончании школы Сева знал лишь то, какие оценки они получали, например, по математике, – и ничего больше. Для предыдущих поколений это было бы дикостью, да и теперь попахивало какой-то бытовой нерефлексируемой жестокостью, но она очень дисциплинировала.
Сквозь эту броню прорвалась только песня. Ненародный голос рока – героического эпоса нового времени. Это был эпос о борьбе за свободу – человека с демонами, вызывающих демонов – с обезличенной толпой. Рок на самом деле звучал странно. Когда Сева вслушивался в слова альбомов «Шестой лесничий» или «Группа крови», то ощущал, что он уже из другого времени. Где нет никакого «мы», которое пришло, чтобы «действовать дальше». Где трудно объяснить, что это за страшный образ такой – «лесничий». Где смехотворным кажется весь советский абсурд «Тоталитарного рэпа». Где слова «И вот мы делаем шаг / На недостроенный мост – / Мы поверили звездам, / И каждый кричит: “Я готов!”» звучали наивно.
Но что-то откликалось. Откликалось, как ни на что другое. Потому что по другую сторону были воровская феня и просовеченные школьные педагоги. Невозможно было бы представить себе песню о борьбе с подобным контингентом – это все равно, что песня о гигиене. Но поле настоящей борьбы обнаружилось. Оно было внутри. Право на эту борьбу только подчеркивало независимость и самостоятельность. Если ты не знаешь, когда и от чего я умру, – а ты не знаешь! – значит, ты не подозреваешь, какой выбор и почему меня мучает, и оттого не имеешь ни малейших прав в моей ничтожной жизни. Такова рабочая логика. Но она залегала где-то очень глубоко – добраться до нее, заподозрить само существование этого ядрышка внутри конкретного Всеволода Калабухова было затруднительно. Сева сливался с внешней средой. Он не возмущал своим присутствием пространства, осторожно входил в него, не вызывая на себя не только огня, но и внимания. Он чувствовал язык пространства, чувствовал регистры речи. Он обезьянничал. Порой ему самому казалось, что пространство могло сделать из него другого человека. И чужие люди – они тоже были частью пространства, закреплены за ним. Поэтому с ними не стоило соревноваться – им надо было всего лишь соответствовать. Насмешнику надо вернуть шутку, гаркающего прораба – поставить на место, с университетским преподавателем – завести диспут, с девочкой – говорить глупости. Разве от Севы убудет? Это же он к ним пришел, а не они к нему. Куда к нему вообще можно было прийти? От какого места себя отсчитывать, Сева не знал, – не назовешь же таким местом песню.