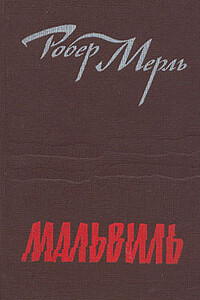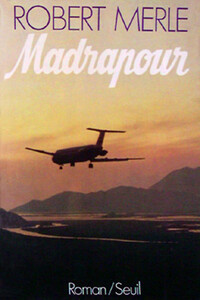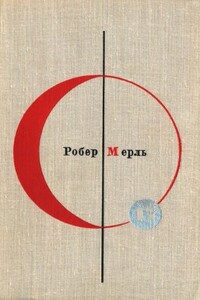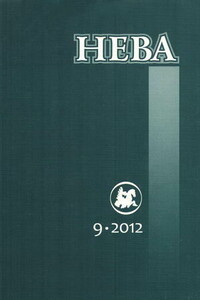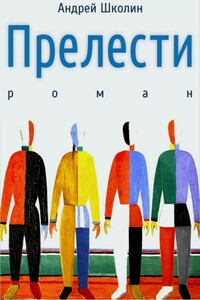За стеклом | страница 7
В этом доведенном до абсурда неприятии установившейся, пусть бюрократизированной, традиции есть, однако же, рациональное, демократическое зерно — требование диалога, стремление к самовыражению. Не все это понимают, но автор романа «За стеклом», умный и благожелательный наблюдатель, понял. Прочтите размышления по поводу «Отелло» юной Дениз, которая считает благородного мавра попросту болваном. Ее рассуждения, возможно, напомнят об «остранении», о котором писал Виктор Шкловский, — когда свежий, незамутненный взгляд подвергает переоценке сугубо условную ритуальную ситуацию. Если не чувствовать себя скандализованным, легко убедиться, насколько велики эвристические возможности непосредственного восприятия, какие потенции скрыты в самостоятельном мышления учащегося, насколько порочна система образования, оставляющая эти потенции втуне.
Мерль повествует о муках, которые испытывает Дельмон, корпя над никому не нужной объемистой диссертацией, — после того как ее прочтут два-три оппонента, она будет мирно пылиться на библиотечной полке. Но этот тягостный путь к докторской степени и по сей день является единственным. Можно понять Дениз, которая заявляет: порочна не только структура высшего образования, отравлено само его содержание.
Но в анализе причин этого максимализма есть одна опасность, одно искушение, в которое впадает Мерль как последовательный «романист идей». Одну идею перекидывают персонажи «За стеклом» друг другу, как мячик, один комплекс кочует со страницы на страницу. Это — «эдипов комплекс», эта идея — фрейдизм. Ища мотивы своих и чужих поступков, герои романа, можно сказать, беспрерывно фрейдируют. Фрейдирует Менестрель, удрученный материнским гнетом, фрейдируют либеральные профессора, рассуждающие о корнях студенческого движения, фрейдирует скромный трудяга Дельмон, находящийся в рабской зависимости от своего шефа, фрейдирует и великолепный Фременкур в лекции о «Гамлете», объясняя поступки принца Датского сексуальной ревностью к матери — королеве. В этом — ирония автора, который подшучивает, как мы видим, и над собой, и над своими героями, и, конечно, над прикованностью к фрейдизму, которая характерна для столь многих исследователей студенческого движения, как консерваторов, так и левых радикалов. Ведь в ироническом ключе, рассчитанном на понимающего читателя, написана вся книга. Саркастический прищур, вольтеровская улыбка автора дают ощущение дистанции, подчеркивают стремление к объективности. Но замечает ли Мерль, что он сам принимает неизменную, а потому комичную позу психоаналитика — уже как автор, а не как Фременкур, — укладывая всех своих юных героев на исповедальную кушетку и заставляя их обнаруживать в подсознании пресловутый «эдипов» конфликт с родителями?