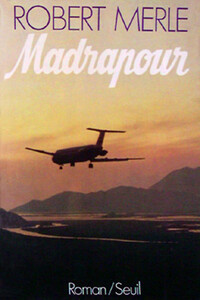За стеклом | страница 24
Я подчеркиваю эпитет «вышедший из моды», поскольку еще в 1962 году некий критик, выступая по радио, охарактеризовал этим словом (разумеется, в уничижительном смысле) манеру, в которой был написан мой роман «Остров». Должен признаться, что я до сих пор не понимаю, как интеллигент может видеть в моде критерий оценки литературного произведения.
В развитом индустриальном обществе, где необходимо подстегивать спрос ради увеличения прибыли, навязчивая реклама прививает публике ненасытную жажду нового. Это заразительно, наше сознание привыкает к мистике потребления, разлитой в атмосфере, и страсть ко всякого рода новомодным штучкам все сильнее охватывает даже области, которые, подобно искусству и литературе, не имеют прямого отношения к техническому прогрессу. Тут мода проявляется с тем большим деспотизмом и непререкаемостью, что она еще произвольней. От романа, например, новая вера, насчитывающая уже несколько лет, требует ломки повествования, ликвидации фабулы, уничтожения персонажей. В конечном итоге автор ставит под сомнение себя самого и самоистребляется.
Я вообще отношусь с опаской к системам, которые считает необходимым создать себе художник. Я уже не раз замечал, что скорее всего устаревает именно то, в чем тот или иной писатель усматривал необычайное новаторство. И если его творчество продолжает жить, то в силу совершенно иных достоинств. Возьмите Золя — крайности его натурализма кажутся нам весьма устаревшими. Но его лиризм не утратил силы. Предвзятое эстетство Оскара Уайльда, казавшееся в его время отчаянно смелым «воплем моды», сейчас выглядит допотопным, чего никак не скажешь о великолепном реализме «Баллады о Редингской тюрьме». Поистине, в этой удаче заключена некая ирония. Уайльд как художник достиг здесь подлинных вершин именно потому, что изменил собственной системе.
Я не против приемов саморазрушения романа, как таковых, хотя мне как читателю они кажутся довольно утомительными, монотонными и, как это ни парадоксально, конформистскими. Пусть нас и оповещают периодически о смерти романа, этот жанр настолько живуч, что может, подобно Уголино[2], питать себя, раздирая собственную плоть. Однако приемы такого рода не соответствовали самому характеру моего замысла.
Я не исходил из абстрактного замысла, который затем все сводит к отрицанию. Я хотел, как уже сказано, описать повседневную жизнь Нантера на протяжении обычного дня, закончившегося, однако, к вечеру событием, как считали его участники, из ряда вон выходящим. Мне нужны были, следовательно, достоверные персонажи, реальные ситуации, связное повествование. И главное, мне никак нельзя было публично совершать самовлюбленное харакири — ведь для того, чтобы придать своей фреске определенный смысл, я должен был оставить в живых автора с его субъективным взглядом на все происходящее.