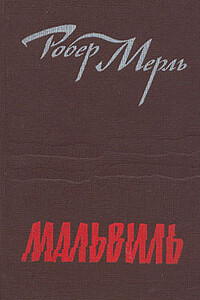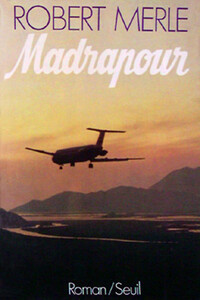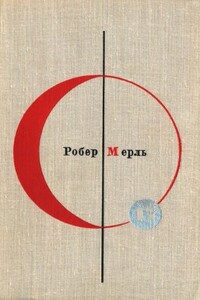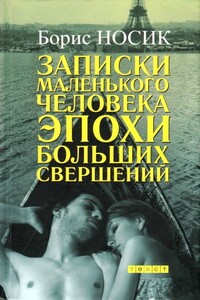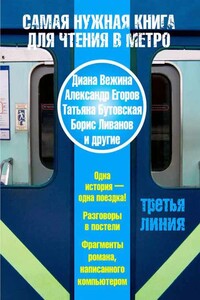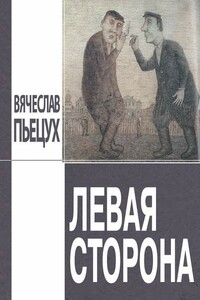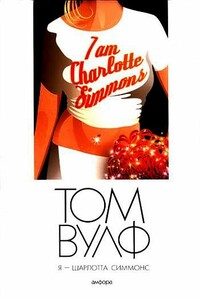За стеклом | страница 12
Десятков убитых, к счастью, не было, а неблагодарные анархисты сочинили на мотив «Карманьолы» непристойную «Граппеньолу», где досталось не только декану, но и доброжелателям — Лефевру и Турену.
Рансе словно в воду глядел, когда говорил: «Источник бунта в Нантере — ассистенты». Он чует классовый конфликт, потому что эксплуатирует труд своих подчиненных. Коллизия профессор Рансе — ассистент Дельмон великолепно иллюстрирует бурно развивающийся процесс социальной поляризации современной западной интеллигенции. Франция не составляет исключения: с одной стороны, «мандарины» (привившееся там словцо) — создатели и монополисты большой культуры, конструкторы идей, с другой — их копировщики и распространители. Младшие преподаватели — те же пролетарии умственного труда. Не случайно их профсоюз занял крайне левые позиции во время майских событий.
Но было бы упрощением сводить причины раскола интеллигенции к экономическому расслоению. Известно, что на естественных факультетах студенческое движение возглавили молодые профессора и ассистенты. На этот раз приверженность современной науке и технике способствовала занятию передовых политических позиций.
Однако у студенчества как «прединтеллигенции» есть не только свои проблемы, но и свои особенности видения, мироощущения. Разные персонажи Мерля повторяют одну и ту же мысль: они ждут, когда начнут жить. Это ощущение ожидания — следовательно, неуверенности и бездействия, хотя бы с перспективой на что-то, — довольно точно отражает двойственность в положении современных студентов. Духовно и физически они вполне развиты, созрели раньше, чем предшествующее поколение, полны энергии — ее у них даже избыток, как видно из романа. А между тем им только предстоит занять свое место в обществе, их молчаливо признают социально незрелыми — уже не дети, но еще не взрослые. Эта неопределенность и неуверенность вызывает протест тем более сильный, что он умножается на возрастную эмоциональную возбудимость, впрочем быстро проходящую, и на остроту окружающих проблем. Последние множители, между прочим, объясняют, почему грянул гром среди ясного, казалось, неба, почему так неожиданно молчаливое, скептическое, холодное поколение (такими эпитетами награждали социологи студентов всего за год-два до майских событий) обернулось поколением бунтующим.