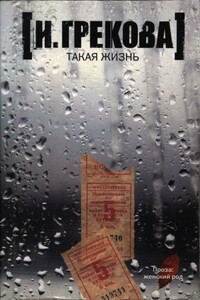Вечная жизнь Лизы К. | страница 61
Почерк нетвердый, но крупный…
И, оглянувшись, увидела в дверях Саню. Он стоял и тоже читал: по мимике и губам – они у нее шевелились, а потом к ним взлетела ладонь…
Дочитал и сказал:
– От него?
– От кого?
– От дона Педро из Бразилии, где в лесах живет много диких обезьян… Короче, чай есть зеленый… или зеленый с мятой.
А Лиза расслышала «смятый». Но прыснула она от другого, глупо, нервно, и даже голову запрокинула к потолку, чтобы расхохотаться, почему не расхохотаться – если на потолке ветвится пятно, похожее на сплетение двух тел… если Саня ткнул пальцем в небо, а попал в обезьян? если Кан жив и здоров – а разве кто-нибудь сомневался? Но в смех вмешалась икота и все никак не кончалась. И испуганный Саня принес ей воды – в стакане, сидевшем в металлическом подстаканнике, как в поездах их детства. Но сказать ему, что они ведь друг другу дети, прямо сейчас показалось бестактным. И она молча выхлебала до дна невкусную, тепловатую, наверняка из-под крана воду, а последними каплями поделилась со странным, казалось, напрочь засохшим растением на окне с тремя нежнозелеными почками, сигнализировавшими о победе жизни над смертью неизвестным науке способом. А Саня сказал, что растение в горшке – драцена и что это память о бабушке, у которой он жил в Тихорецке. Мама ведь вышла замуж в Германию, а его отвезла к бабусе. И пока они пили терпкий, зеленый, вернее, зелено-коричневый чай с подсохшими сушками за неимением в доме даже кусочка сыра, и пока в его разболтанной «шкоде» пробивались сквозь пробки, он только о бабушке и говорил – без нажима, но и без пауз. Как будто теперь, после этой глупости-шалости (от которой и в памяти-то почти ничего не осталось), он должен был всё ей до капельки рассказать. А она должна была его слушать, пристегнувшись, чтобы никуда не деться, и приоткрыв окно, чтобы хотя бы носом, а быть не с ним. Нос после выпитого и недоспанного был на удивление чуток. Каждый запах, мимо которого они пролетали, заполнял его целиком. Названий у ароматов почти что и не было, но их отдельность и их весомость сводили с ума: липа! одуванчик? клевер? рябина! это ее цветущая белая гроздь только что промелькнула – если в нее зарыться, она пахнет жареной курицей, а в полете-пролете – чем-то сытным, и только.
Санин шелест сначала особо не доставал: Октябрина Трофимовна, бабушка, в двадцать пять лет получила грамоту как лучший молодой учитель края, в двадцать семь стала завучем, в тридцать пять похоронила второго мужа… Было и что-то еще – про первого, важное, его, кажется, убило током – но где и когда?