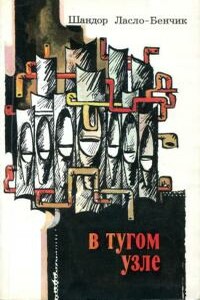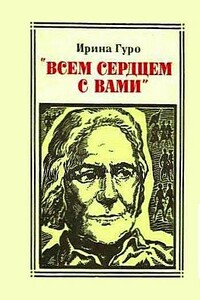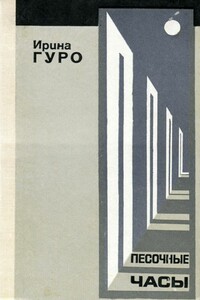Арбатская излучина | страница 49
Сказать, что им тогда было море по колено? Это значит ничего не сказать. Просто лежало впереди необозримое пространство жизни, просвеченное солнечным лучом. Без тени. Так они тогда верили, и позднее тоже. Вопреки всему. Вопреки сводкам с фронтов и наставлениям командиров. Да кто же их слушал? Смутным пятном виделось заплывшее то ли от пьянства, то ли от житейских невзгод лицо полковника Дмитриевского, который, тыча толстым пальцем в карту, повторял бессмысленно: «Обходным движением… с левого фланга… ударить в тыл…» А на что надеялись? На союзников? На полководческий гений давно вышедшего в тираж кумира? На фу-фу? На себя, на свою молодость, на то, что не даст ни бог, ни дьявол погубить Россию, а с нею их, ее сынов. Без них ей нет жизни. А без нее им?..
Значит, была Марго…
И вот — уехала. Куда уехала? В метель, в сумятицу, в беспросветность. И уж во всяком случае — в недосягаемость!
В ту ночь, в том подлом кабаке, они подрались с какими-то итальянцами, Вадим привязался к чему-то, кричал: «Бей макаронников!» Было ужасно, позорно, потерянно.
Под утро они каким-то образом оказались в мансарде Евгения, и опять пили, и опять говорили. Но уже ничего не было сказано о Марго, не к месту было о ней говорить, не ко времени. Верно, тогда на рассвете простился Вадим с первой и единственной своей любовью и изгонял, пытался изгнать из памяти дом за водокачкой, обреченную прядь на девичьем лбу.
А что ж потом? Что было потом? Как вспомнить? Впрочем, один день помнился ясно, и день был ясный. Сентябрьский парижский день, ближе к вечеру, когда по-особому остро чувствовалась отчужденность от уличной суеты, от толпы, в которой каждый был ее частицей только на короткий срок, чтобы вскоре где-то в Аньере, Клиши или еще где-нибудь открыть своим ключом дверь своего дома. Не было у них ключа. И дома не было.
И потому они охотно собирались в неказистом том заведении, где хозяйничала приветливая вдовушка есаула, где крутилась пластинка: «Замело тебя снегом, Россия, замело сумасшедшей пургой. И печальные вихри земные панихиды поют над тобой!»
В тот день, ближе к вечеру, разыскал-таки его благодушный, тогда еще вовсе не толстый, а только склонный к полноте, странно похожий на мать Евгения, чем — непонятно: кроме имени Гедвиг, ничего не было в ней немецкого — рыжеватый дядя Конрад. И когда он обнял Евгения — даже слезы появились на глазах добряка дяди, то странным образом тогда и ощутилось сходство, непонятно в чем.