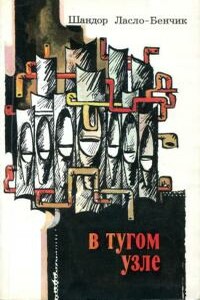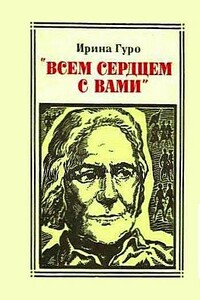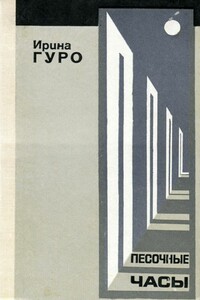Арбатская излучина | страница 10
Но он только мельком подумал об этом. Он вдруг был взнесен высокой волной, захватило дух, и волосы на голове, наполнившись ветром, зашевелились, и весь он словно поднялся на воздух, ставший плотным… И так остался парить над землей под небом, которое приближало к нему свой ребристый от облаков светлый купол, словно зонт раскрывшегося парашюта. Он был оглушен и растерян…
Перед ним лежал Арбат. Он узнал страну своих снов. Снов, а не своей молодости. Потому что молодость была очень далеко позади, а сны оставались с ним все время.
Арбатская излучина, знакомая, как изгиб собственного тела, открылась ему внезапно, словно при вспышке магния. Он вдохнул в себя воздух и задержал выдох.
Ему показалось, что он узнал Арбат не по каким-то признакам, отмеченным зрением, слухом или обонянием, хотя здесь было свое и для глаза, и для уха, и даже — запахи… Он подумал, что узнал Арбат по этому глотку воздуха.
Вечерний Арбат струился перед ним одновременно стремительный и вальяжный, одновременно светлый и темный, потому что фонари бросали круглые пятна света, в которых люди скользили, как на катке. Одни скрывались, попадая в полосу мрака, а другие выступали на свет, и от этого казалось, что те же самые фигуры кружатся в излучении матовых тюльпанов, высоко взнесенных железными мачтами.
Ни одно конкретное воспоминание не посетило его в эту минуту, и он не хотел вспоминать, потому что сильнее всего, что могло бы предстать перед ним, было видение вечернего Арбата.
Он прислонился к стене, держа в руке палку, но не опираясь на нее, таким он ощутил себя легким, и, хотя он не двигался с места, ему казалось, что он уходит за толпой, струится вместе с ней, стремясь достигнуть и все не достигая того берега, который еще не был виден, но он твердо знал, что было там, впереди, где площадь словно замком скрепляет разбег улиц, — он видел все глазами вдруг встрепенувшейся памяти.
И будто для него, только для него распростерся, играл и сверкал, трепетал и топал Арбат. Топал копытами давно отомчавшихся троек, хотя это были всего-навсего шаги по асфальту. И сверкал лакированными крыльями пролеток, хотя то были блестящие бока автомашин. Арбат тек в облаке невнятного говора, восклицаний, обрывков песни, в смутном, но невыразимо приятном звучании русской речи. Он улавливал в ее полифонии и мягкость материнских слов, и звон колокольцев — песню дальней дороги, и смех ребенка, и протяжность заупокойной службы, — все оттенки и переливы человеческой жизни витали над тугой излучиной Арбата, накрепко стянутой в веках невидимой тетивой.