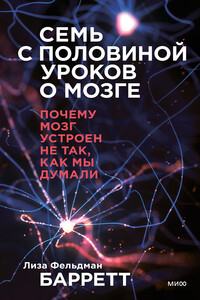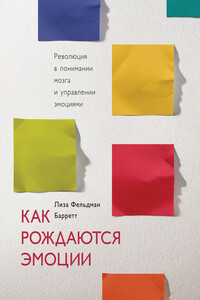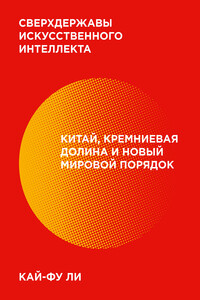Путешествия во времени. История | страница 56
Младшему Бобу все это по-прежнему не нравится. «Ты хочешь убедить меня в том, что причинно-следственные связи могут замкнуться в кольцо». И старший Боб, несмотря на все с трудом обретенное знание, не прекращает работать ради исполнения своей судьбы. Он не ждет, пока его более ранние «я» отыграют свои роли, — он решительно вынуждает их действовать. Рассказчик говорит: «Каждый строит планы, пытаясь обеспечить свое будущее. Пришло время ему обеспечить свое прошлое». В итоге эта история — змея, толкающая собственный хвост и размышляющая при этом, действительно ли это необходимо.
У автора, печатающего свои рассказы на механической пишущей машинке, чтобы оплатить счета в Южной Калифорнии, и старающегося сделать свои сюжеты правдоподобными, а характеры героев — убедительными, были свои проблемы со свободой воли. Он превращает героев в марионеток, а ниточки то мелькают заметно, то пропадают из виду. Их кругозор ограничен. Только всеведущий автор, рисующий диаграммы на листе бумаги, видит всю картину целиком. Нас, читателей, события увлекают, мы помним прошлое, предугадываем будущее. Мы — смертные, для нас сейчас — это сейчас.
С этим нелегко справиться как при чтении выдуманных историй, так и в реальной жизни. Хайнлайн формулирует это так: мы должны прилагать «мощные и тонкие интеллектуальные усилия, чтобы думать о подобных ситуациях не в терминах текущей длительности, а с позиции вечности». От свободы воли нелегко отказаться, поскольку мы пользуемся ею непосредственно — постоянно что-то выбираем. Пока еще не случалось, чтобы какой-нибудь философ пришел в ресторан и сказал официанту: «Просто принесите мне то, что предопределено Вселенной». Опять же, Эйнштейн сказал, что он мог бы «захотеть» раскурить трубку и сделать это, не ощущая при этом особой свободы. Он любил цитировать Шопенгауэра: Der Mensch kann wohl tun, was er will; aber er kann nicht wollen, was er will («Человек может делать то, что хочет, но не может хотеть по своему желанию»).
Проблему свободы воли можно сравнить с великаном, который спокойно спал и которого, не собираясь, в общем-то, этого делать, Эйнштейн и Минковский растолкали и заставили проснуться. Насколько буквально должны были их последователи воспринимать пространственно-временной континуум — ту самую жесткую Вселенную, напоминающую каменный блок и зафиксированную навечно, сквозь которую движется наше ограниченное трехмерное сознание? «Неужели все будущее расписано заранее и только ждет, чтобы его „впихнули“ в наш трехмерный мир? — спрашивал в 1920-е гг. Оливер Лодж, британский физик и пионер радио. — Неужели не существует никакого элемента случайности? Никакой свободы воли?» Он призывал к своего рода скромности. «Я говорю о геометрии, а не о теологии, и было бы глупой ошибкой делать вид, что мы решаем вопросы высшей реальности при помощи простых аналогий и математического анализа… Род человеческий существует не так уж долго; научные исследования он начал совсем недавно. Он все еще скребется по поверхности вещей, по трехмерной поверхности вещей». Сегодня, столетием позже, мы можем сказать то же самое.