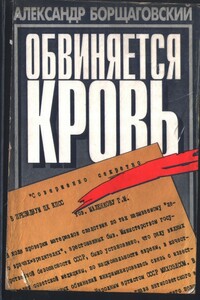Где поселится кузнец | страница 47
Поймите меня: в Лондоне жил человек, чье слово весило для нас больше всех других слов, и я мог явиться к нему не праздно, а по делу. После Берлина и Париж, и Остенде, и туманный пролив под вещие удары колокола, и белые обрывы Дувра, и Лондон с первыми днями устройства — все наполнилось новым смыслом: впереди визит к Герцену.
Начали мы не с Трюбнера, а с Тхоржевского, рассчитывая найти в нем человека, знакомого с Россией, и не ошиблись: он встретил с опаской мои эполеты, был сух, потом смягчился, — нашлись у нас и общие знакомые — Тхоржевский знал старшего брата несчастного Людвика. Поляк по рождению, Тхоржевский любил русского изгнанника братской любовью. Во всю мою жизнь я не собирал коллекций — я слишком склонен раздавать, чтобы быть собирателем, но одну коллекцию моя память хранит свято — примеры братства помимо и даже вопреки крови. Если великие и малые племена для того только заселили землю, чтобы, отгородись горами, реками или морями, втихомолку ковать оружие вражды, лелеять свою кровь, находя ее состав выше чужой крови, тогда всеобщее истребление — дело времени и удел человечества.
После знакомства со Станиславом Тхоржевским мы долго не решались вернуться в прохладную комнату пансиона со студеной водой в белом с синим узором кувшине, со свежим всякий день бельем и успокоительной тишиной. До крайней усталости мы бродили по обширной Риджент-стрит, то скрываясь в темноте ночной улицы, то выходя под свет газовых фонарей. Я держал в руке полученную у Тхоржевского книгу — с месяц назад вышедшую вторую «Полярную звезду», а мысли и сердца наши были поглощены несчастьями великого изгнанника. Слухи о смертях вокруг Герцена доходили и до нас перед Крымской войной, но так они были темны, так перемешались в них сочувствие и злоба, испуг публики и черное карканье святош, что нечего было и думать об истине. А тут мы услышали горестную речь друга, мы вместе с ним пережили гибель матери Герцена и сына Коли в морской пучине, где-то между материком Европы и островом Иер, и агонию его жены, а с нею и оборвавшееся дыхание новорожденного Герцена. Мы увидели скорбные похороны русской на итальянской земле, на высокой горе у моря, процессию, которая шла долго, минуя пригороды и кучки зевак, дивившихся огромному венку алых роз на гробе, но более всего отсутствию священника. Были минуты, когда мне казалось, что я теряю Надю, что угасает не Natali, a Nadin, сломленная чужбиной, что и в созвучии двух нерусских имен, которыми любящие нарекли русских женщин, есть тайна и умысел судьбы.