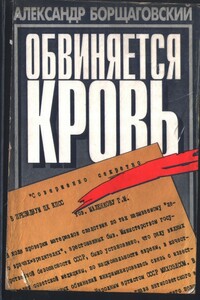Где поселится кузнец | страница 46
Помнишь старый, распавшийся на тетради экземпляр твоей книги „Русский среди американцев“? Если можешь, пришли тетрадь, где описан Радом и твое знакомство с генералом. Может случиться удобная минута, я покажу и ему, но скорее всего для меня одного».
Глава пятая
Я уже обмолвился о том, что перед севастопольской войной свел знакомство с петербургским издателем Колбасиным. Узнав, что я еду на воды и буду в Берлине, он дал мне пакет для своего немецкого собрата Фердинанда Шнейдера — Берлин, Унтер-ден-Линден, 19, — намекнув, что пакет этот лучше никому не показывать, но, впрочем, добавил он с ухмылкой: «Кто же станет спрашивать, хоть и на границе, у гвардейского полковника, едущего на воды с молодой супругой — княжной!» Судьба пакета тревожила Колбасина, и он явился ко мне еще раз. При этой встрече Колбасин решился открыться, сделать меня своим сообщником: могло ведь случиться, что я не застану Фердинанда Шнейдера на Унтер-ден-Линден и вдруг вздумаю вернуть пакет в Петербург почтой. Он сказал, что пакет назначен Александру Ивановичу Герцену, и дал лондонские адреса издателя Трюбнера и книготорговца Тхоржевского, — я мог бы отправить им пакет из Берлина.
Имя Герцена было если не знаменем, за отсутствием тогда в России политической партии, то тайным паролем для всех, кто презирал ушедшее царствование и не слишком обольщался новым. Иные его сочинения мы читали, как верующие Библию, а один из его героев, Владимир Бельтов, послужил нашей дружбе с Надей: она повинилась позднее, что при первых встречах в Варшаве, когда я дичился и помалкивал, ей открылось во мне нечто бельтовское, его одиночество и усталость сердца. О Бельтове речь впереди — мы его читали не раз, сначала бредили им, верили, что жизнь его не угаснет без пользы, а повзрослев, устрашились его судьбы, напрасной, непоправимой растраты сил. Случай открывал нам дорогу к Герцену, и мы решили перед Атлантиком спросить его; о лучшем оракуле нельзя было и мечтать.
Историческая память нужна не меньше, чем сама история, — они нераздельны. За полвека американской жизни я постиг это вполне — здесь жизнь еще без истории, она в зародыше, еще она не более чем семейное предание, легенда изустная, с легенды же спрашивают не истину, а красоту. Историческая память необходима, она придет скоро и к России, вылупится из ее несомненного прошлого, презирая династии, — но именно память, а не та живая, мучительная сила нервов, истязание сердца и страсти, какими жили прошлые люди. Если бы эта сила не убывала, не переливалась в остывающие формы памяти, а со всем жаром передавалась будущему, у которого своя страсть и новые истязания, жизнь на земле стала бы невозможной, сжигающей в золу и дым.