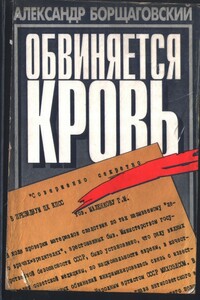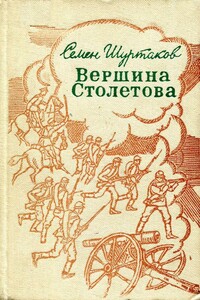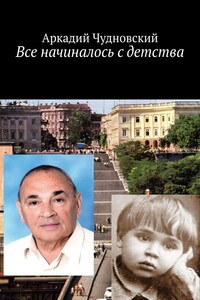Где поселится кузнец | страница 16
— Счастлив ли он жизнью? — переспросил старик. — Не столом, не достатком, не сварением желудка, а именно жизнью?
Старик ждал, а молодой петербуржец не решался ответить ему коротким «да» или «нет». Об отце не расскажешь отдельно от России, а новой России старик не знал, помнил ее крепостной, с еще разбросанными по глухим углам Сибири героями Сенатской площади, с Гатчиной и со старомодным, гордым, что не допустил в Петербург адмирала Непира, Кронштадтом. Как рассказать ему о земстве, о новомодных партиях, о смелых, благородных людях, которые в нетерпеливой гордыне своей замышляли переменить правление одной бомбой, покушением, а покусившись, с успехом или без успеха, клали головы на эшафот? Как описать горькую, унизительную нужду мужика, для которой и слов не подберешь, и вместе с тем и тысячи верст новых стальных дорог?
— А вы к нам как: на отцовский манер? Без гроша в кармане, все своим горбом?
Владимиров-отец, учитель из России, в 1872 году сошел на пристани в Нью-Йорке с несколькими долларами в кармане и прожил в Соединенных Штатах четыре года, исколесив страну от океана к океану, от мексиканской границы до Канады, не гнушался любой работой и грошовой оплатой, почитая и ее удачей в годы захватившего страну финансового кризиса.
— Так и решили поначалу, да отец не выдержал характера. Посылал меня повторить свой урок и потерял покой: что я тут да как? Обеспечил меня всем. — Он приподнял руки, как у портного на примерке. — Уже и в Чикаго пришли деньги.
— А вы бы их обратно! — У старика загорелись глаза. — Вот старику бы урок! Верно, вы один у него?
— Один. И характера не хватает, — признался Владимиров, почувствовал себя свободнее и проще, и подумал, что у них, у Владимировых, в целом мире нет близкой родни, и он вырос, сложился без родни, как будто так и должно быть, и это отпечаталось на нем холодностью, стоическим спокойствием даже и при виде чужого несчастья, — уже студентом он придумал гордиться этим спокойствием, приписывал его медицине, сознательному приготовлению себя к поприщу врача. — Человек слаб, особенно против заботы; так удобно быть обеспеченным. Отцу никто не мог помочь, он сирота, вот и барахтался…
— Жил! — задумчиво возразил старик. — Михаил — жил!
Его подняло с расплющенной подушечки; грузно навалясь животом на стол, он прянул к окну. В молчании стало слышно сверлящее постукивание положенных на стол часов, натиск ветра, ровный, угрюмый, во все окно, нажим, когда ветер не ищет лазейки, а хочет отодвинуть все жилье — и стены, и двери, и окна, и кровлю над одиночеством стариков. Старик проворно выбрался из-за стола и приник к окну. На заду обвисли плисовые штаны, заправленные в теплые боты, со спины было лучше видно, как коротка его шея, однако в приземистой и грубоватой фигуре сквозила не только былая сила, но и жадный интерес к этой минуте, такая устремленность к наружной жизни, перед которой и сухое, крепкое под ветром окно, и кирпичная стена, и та вторая, тюремная с виду ограда не имели ни силы, ни действительности. Что его вяжет с заоконной жизнью? Он один, верно, и жены уже нет в живых, иначе зачем ему быть здесь, в пансионе? На стенах только один старинный выгоревший от времени дагерротип: поясной портрет молодой женщины, — черная амазонка стянула грудь, над высоким воротником с бархатным бантом-бабочкой нежный, в одно касание, овал лица, чувственный, остерегающий насмешкой рот и светлые, настойчивые, сумасшедшие глаза; они смеются и над собой, и над тем, кто стоит у фотографической камеры.