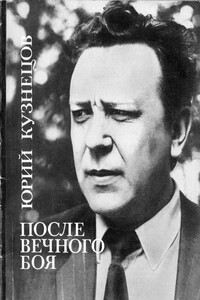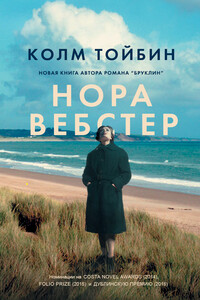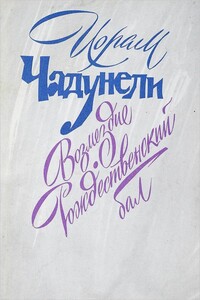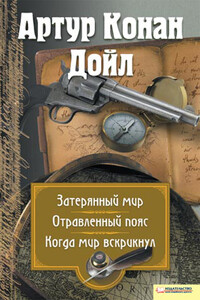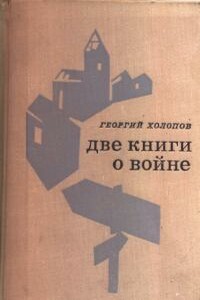Тропы вечных тем: проза поэта | страница 97
Ступин, несомненно, крупный поэт со здоровым народным чутьём, и его стихи — ещё одно свидетельство, что русская поэзия жива и не собирается умирать.
Но похоже на то, что собирается умирать наша Московская писательская организация. В ней создалось чрезвычайное положение. Напомню: 26 августа сего года отколовшаяся от нас группа «Апрель» провела собрание, по их утверждению, общее собрание писателей Москвы (было около 200 человек) и объявила себя московским союзом писателей. Мы — московская организация, они — московский союз. Это тавтология намеренная — чтобы создать путаницу. Выпирает явное желание подменить нас собой. «Апрель» хочет поглотить остальные одиннадцать месяцев и стать круглым годом. Таков его «демократический» аппетит. Кто этого не замечает, тот просто слеп. Далее события пошли таким ходом. Из секретариата нашей московской организации в бывший «Апрель» (для удобства называю новое образование по-прежнему) сбежали председатели четырёх секций: переводчиков, детских и юношеских писателей, критиков и драматургов. Видимо, они не могли поступить иначе. И хорошо сделали, что сбежали. Но это только начало. Чтобы довести дело до конца, мы им должны помочь.
Дело в том, что наша творческая организация на добрую треть состоит из нетворческих людей. С самого начала в основу Союза писателей вкралась ошибка. Правила приёма толковались настолько расширительно и туманно, что в Союз писателей стали принимать кого попало. Призыв в литературу обернулся призывом в СП. И получился союз литераторов. На это указывает даже название нашего клуба: «ЦДЛ». Но литератор — профессия (Ульянов-Ленин тоже был литератором), а писатель — призвание. Между тем и другим проходит граница, если не пропасть. Писатель создаёт художественный мир, литератор — никогда.
Начну с переводчиков. Что такое переводчик? Это посредник. Посредниками между литературами бывают и творцы, то есть поэты и писатели. Бунин получил пушкинскую премию за перевод «Песни о Гайавате». Но это был перевод поэта, конгениальный оригиналу. Лонгфелло остался Лонгфелло и в русском языке. У переводчиков выходит наоборот. Когда Маршак перевёл сонеты Шекспира, то Шекспир стал Маршаком. И так сплошь и рядом. Стихи Гёте невозможно читать в переводах. А как переводят иноязычную поэзию нашей страны, печально известно. Создаётся впечатление, что перед нами не русский язык, а некое литературное эсперанто. Прозу переводить легче, но выходит то же самое эсперанто. Читатель может этого не заметить, но писателя не проведёшь. Интернациональный разгул переводческой халтуры высмеял ещё Мандельштам. В 1933 году он написал такие стихи: