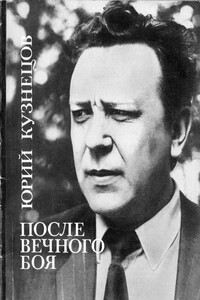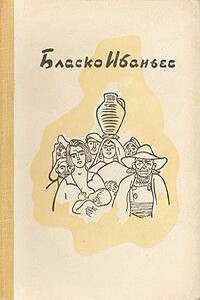Тропы вечных тем: проза поэта | страница 108
Творцами мирового эпоса были певцы. Естественно предположить, что первыми певцами были ангелы. Они пели хвалу Богу. Тончайшей интуицией это уловил юный Лермонтов:
Люди же на земле пели гимны богам, творили мифы и сказки. Мифическое сознание неистребимо. Народы мира доныне живут мифами, даже ложными, вплоть до газетных «уток». Об этом сознании лучше всех сказал А. Ф. Лосев, глубокий знаток мифа:
«Для мифического сознания всё явленно и чувственно ощутимо. Не только языческие мифы поражают свежей и постоянной телесностью и видимостью, осязаемостью. Таковы в полной мере и христианские мифы, несмотря на общепризнанную и несравненную духовность этой религии. И индийские, и египетские, и греческие, и христианские мифы отнюдь не содержат в себе никаких специально философских и философско-метафизических интуиций или учений, хотя на их основании возникали и могут возникнуть соответствующие философские конструкции. Возьмите самые исходные и центральные пункты христианской мифологии, и вы увидите, что они суть нечто чувственно явленное и физически осязаемое. Как бы духовно ни было христианское представление о Божестве, эта духовность относится к самому смыслу этого представления; но его непосредственное содержание, то, в чём дана и чем выражена эта духовность, — всегда конкретно, вплоть до чувственной образности. Достаточно упомянуть „причащение плоти и крови“, чтобы убедиться, что наиболее „духовная“ мифология всегда оперирует чувственными образами, невозможна без них…» («Диалектика мифа»).
Итак, миф не выдумка и не ложь. К настоящему мифу нужно относиться серьёзно. Мифическое сознание в русской словесности проявлялось по-разному.
Однажды «изобразительный» поэт Бунин наткнулся на иное пространство (стихотворение «Псковский бор»). Остановился, как он пишет, «на пороге в мир позабытый, но родной» и стал размышлять:
Но зря он боялся. Никаких сказочных троп, русалок, леших и прочей жути в псковском бору он бы не увидел. Для этого нужно обладать особым зрением. Оно было у Гоголя. В его повести «Вий» пространство Хомы Брута и пространство Вия совмещены и представляют одно зримое и осязаемое целое. Правда, потом возникло третье, узкое пространство, очерченное белым (святым) кругом: Хома не удержался в нём по немощи веры своей.