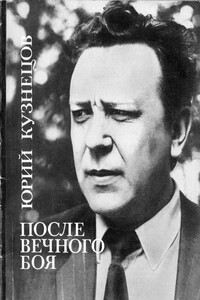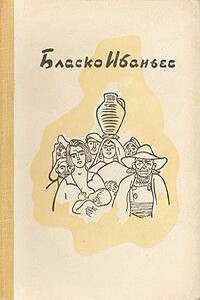Тропы вечных тем: проза поэта | страница 105
Для рационалиста природа мертва, а человек — машина (как для предтечи кибернетики французского философа Ламетри) и животное — автомат (как для нашего отечественного физиолога Павлова). Художественная литература обозначила подобный тип — это Базаров, для которого «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». От мастерской недалеко до лаборатории, что обозначено рассудочным поэтом Заболоцким:
С людьми такого умственного склада раньше спорил Тютчев:
Ещё раньше о человеке-рационалисте, а может, о самом себе, говорил Боратынский, поэт наиболее понятийный:
Однако прорицаний больше чем достаточно. И все они трагические. Интуитивный человек давно почуял впереди экологическую катастрофу, тот самый «последний час природы».
Рациональное мышление привело человечество в тупик технической цивилизации, враждебной природе.
Тем и дорога книга Афанасьева, что на богатом, конкретном материале раскрывает поэтическое состояние мира. Первозданной свежестью веет от народных воззрений на свет и тьму, огонь и воду, небо и землю, Бога и человека, мир и душу, судьбу и счастье, а также на всё животное и растительное царство.
Более того. Образную систему русской литературы можно проверять по «Поэтическим воззрениям». Тут система художественных координат почти полностью совпадает. У Афанасьева битва и молотьба — метафора грозы. В «Слове о полку Игореве»: «…души веют от тела». У Афанасьева красный конь — метафора Зори. У Есенина то же самое: «Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне». Ходячее облако эпических песен совпадает с летающим гробом гоголевского «Вия». В народных воззрениях «тело — одежда души». У Тютчева по сути то же самое:
В лирической дерзости Фета:
«тревога и любовь» сквозят как невидимые сущности.
У Афанасьева: «Душа представлялась звездою. Римляне, по свидетельству Плиния, думали, что каждый человек имеет свою звезду, которая вместе с ним рождается, а по смерти его упадает с небесного свода. Падающая звезда почитается в русском народе знаком чьей-либо смерти: потому, увидя падение звезды, обыкновенно говорят: „кто-то умер!“, „чья-то душа покатилась!“ …» Выражение: «прости, моя звезда!..», «закатилась моя звезда!» употребляется в том же смысле, как и выражение: «закатилось моё счастье».