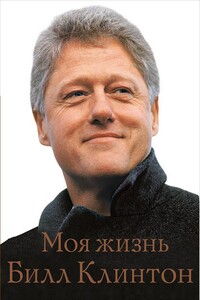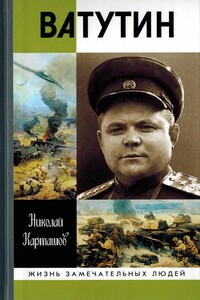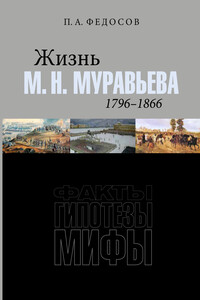И у палачей есть душа | страница 15
Поль Руньон умер 12 декабря 1934 года, за шесть лет до войны. И, однако, я слышала, как он предостерегал нас против катастрофы, которая, по его мнению, — и он в этом даже был уверен — была неизбежна. Гитлер тогда только что пришел к власти: он был избран в 1933 году. Необходимость остерегаться его экспансионистских намерений была самоочевидна, хотя многие еще долго оставались слепы даже после аншлюса[13] — захвата Австрии и аннексии Судет. Мой дед понял все намного раньше. При мне он не раз говорил о неотвратимости войны. Он ждал, что война будет объявлена в ближайшие недели.
Неважно, что его диагноз был несколько преждевременным, он воспитал нас в сознании опасности, исходящей от окружающего мира.
Среди наших друзей были немцы, что дало нам возможность физически ощущать изменения, происходившие за Рейном.
Большинство немцев выражало беспокойство, но во Франции приход нацистов к власти никого не поразил, за исключением редких интеллектуалов, по большей части христиан, например, писателя Жоржа Бернаноса или философа Жака Маритена. Но двое из наших друзей, наоборот, были весьма расположены к Гитлеру. Они говорили нам, что в той катастрофической ситуации, в которую попала Германия, ей необходим вождь. Они видели в Гитлере спасителя, однако быстро разочаровались.
Нашу бдительность по отношению к Германии поддерживали воспоминания бабушки. Она пережила и войну 1870 года, и войну 1914 года. Как многие люди, пережившие эти события, она называла немцев «фрицами». Но без оттенка презрения и ненависти, которые мы часто слышим. Из разговоров с товарищами по классу я легко понимала, как их родители относятся к немцам. Лично мне этот «антифрицевский» тон, возродившийся во время оккупации, всегда был неприятен. Я никогда не признавала, что можно питать и поддерживать в себе отвращение к человеческим существам; что во имя отвержения, пусть и оправданного, политики страны допустимо судить народ в целом. Я никогда не верила, что человек может быть на сто процентов плохим, полностью ответственным за плохую ситуацию.