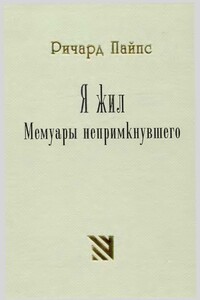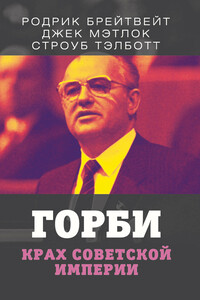За Москвой рекой. Перевернувшийся мир | страница 41
Все эти сложные обстоятельства не получали достаточно широкой положительной оценки на Западе. Твердолобые западные аналитики продолжали настаивать на том, что в расчет надо принимать поддающиеся измерению возможности Советов, величину их военной мощи, количество ракет, танков, дивизий. Измерить намерения невозможно, а потому нет смысла основывать свою собственную политику на предполагаемых стимулах советской политики.
На практике западным правительствам, конечно, приходилось постоянно делать те или иные выводы о политических целях Советов. В этом, как и во многих других областях внутренней и внешней политики, у них было мало специальных знаний, на которые они могли бы опираться в своих заключениях. В 1969 году, например, Объединенный комитет Британской разведки признал, что его доклад «об основополагающих факторах, влияющих на выработку советской внешней политики и принципы, судя по всему, лежащие в ее основе» не опирается на какие-либо данные секретной разведки и фактически не имеет под собой ничего такого, что не было бы доступно взору вдумчивого наблюдателя извне[26]. Несмотря на свою явную решимость проводить логическое различие между возможностями и намерениями, западные аналитики постоянно отказывались от установления столь важной связи между внешней видимостью советской военной мощи и повседневной реальностью советской экономической и политической системы, которая была явно не способна добиться столь же значительных экономических, технологических, политических и социальных успехов, каких достигли развитые страны Запада.
Не далее как в 1988 году известная американская специалистка по вопросам стратегии вернулась из своей первой поездки в СССР глубоко шокированная состоянием магазинов на самой шикарной улице Москвы: «Что же это за сверхдержава?». Таким образом, на протяжении большей части периода «холодной войны» Запад либо неверно истолковывал, либо переоценивал советскую угрозу. Он не сделал надлежащего вывода из многочисленных явных свидетельств слабости Советов внутри страны и их имперской внешней политики. Западные аналитики, видимо, не могли или не хотели напрячь свое воображение и поставить себя на место своих противников. Задача военного планирования, стоявшая перед советским Генштабом на протяжении большей части периода «холодной войны», была обескураживающе трудной. На западном фланге им противостояла группа процветающих и сплоченных европейских государств под предводительством США. С севера грозила опасность ядерного уничтожения со стороны стратегических военно-воздушных сил. На востоке им противостояло свыше миллиарда потенциально или активно враждебных китайцев. А у Советов, в отличие от их американского противника, не было союзников — только сателлиты, проявлявшие время от времени тревожащую тенденцию к бунту. Как и их западные «аналоги», они неизбежно склонялись к тому, чтобы перестраховаться на случай наихудшего варианта.