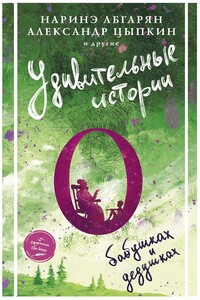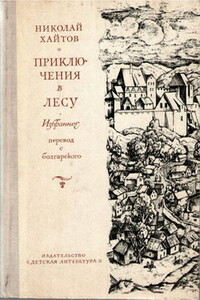Дни, что нас сближают | страница 72
— Кому?
— Не имеет значения. Большинства уже нет в живых.
— Обычное дело, — говорю я. — На собрании кричали?
— Собрания не было. Все произошло в коридоре. Шепнули мне только: «Забери свою статью — не то раздавим тебя». Все просто — не нужно выступлений и никто посторонний не слышит. — Отец улыбнулся, не глядя мне в глаза.
— Ну и забрал бы! Тебе бы это дешевле обошлось! — смеюсь я.
Я смотрю на него, вижу его усталые глаза. Мои щеки горят — верно, от выпитой ракии. И вдруг мне становится тяжело, муторно, и в памяти вспыхивает мрачное молодое лицо отца, странная ночь на голых кроватных сетках, белая вершина горы, с которой мы должны были скоро распроститься. И тут я понимаю еще одну простую истину: отец не сказал мне этого тогда, когда я был ребенком, маленьким нервным мальчуганом (не сказал мне, что не сломался, что выдержал), чтобы не замутить мою чистую, наивную веру. Он предпочел, чтобы я осуждал его вместе со всеми, лишь бы не оттолкнуть меня от всех. Он все взял на себя, чтобы я не остался изолированным, озлобленным… Все для меня… для меня… для меня…
Как сказать ему, что у него большое сердце? Только вряд ли он захочет это слушать. Вот они сидят с матерью, склонив друг к другу седые головы. О чем они сейчас думают? Вероятно, опять обо мне, о том, как мне помочь. Но я понял… Я уже понял, и мне ничего не надо. Наверное, только тогда и начинаешь становиться человеком, когда перестанешь требовать…
Она ничего не требовала от меня. Даже тогда, когда имела на это право. Она хотела только быть рядом, только положить голову на мое плечо. Это мое плечо, говорила она, и никто не может его у меня отнять… Я лежу навзничь на площадке в скалах, закинув руки за голову, глядя в синее небо, такое же синее, как и в любой другой солнечный день. Жужжат в траве насекомые, ветер время от времени бьется об острые скалистые гребни и со свистом устремляется вниз… Она возникает из синего воздуха, улыбается, склонившись ко мне, и кладет мне на лоб нежную свою ладонь. Я закрываю глаза. От ее волос веет горным воздухом и запахом привядших на солнце скошенных трав. Она опускает голову на мое плечо — на «ее» плечо… Мне так хорошо… Из-под смеженных век вдруг стекают две капли, я поднимаю руку, чтобы стереть их, но рука застывает в воздухе, затем опускается, нащупывает пучок травы и срывает былинку. Зажав былинку в зубах, я пишу ею странные знаки на небе…
Вот так мы лежим вместе, и ее голова на моем плече, на ее, на нашем плече. Но ее уже нет. Я плечом ощущаю ее горячую щеку — но знаю, что я один…