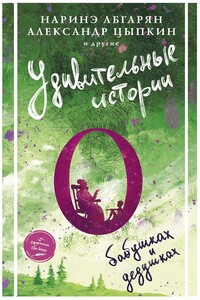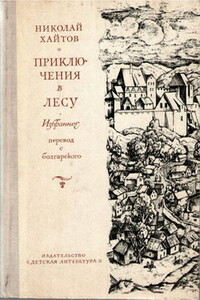Дни, что нас сближают | страница 70
Вспоминаю темный коридор, в который вынесли все наши пожитки, зашитые в тюки, и голые кроватные сетки, и старый радиоприемник «Кёртинг» (на ручках настройки все еще видны были следы сургучных печатей).
— Папа, а там есть горы? — спросил я.
— Нет.
— А где мы будем кататься на лыжах?
— Не будем кататься… Будем удить рыбу, там есть река, — отвечает отец и хрипловато смеется.
— Я напишу письмо, что это несправедливо, и отошлю его!..
Отец шлепает меня сильнее, чем обычно. Я плачу — слезы так и льются по щекам.
— Паршивец! — кричит отец. — Будешь писать? Письма будешь писать?! С таких лет жаловаться? Ты мне попишешь!..
Мать бросается между нами:
— Не смей его бить! При чем тут ребенок?
— Пусть лучше дома поревет, — огрызается отец.
Машины все нет. Мы допоздна ждем ее, а потом ложимся на голые пружины, потому что все матрасы зашиты в тюки. Мать целует меня перед сном, и я спрашиваю:
— Мам, там вправду много рыбы?
— Не знаю, — отвечает она и начинает плакать.
— Не плачь, — шепчу я. — Каждый день буду ловить тебе рыбу. Ты не будешь ходить на службу. Будешь сидеть дома и жарить нам рыбу…
Я ходил в провинциальную школу в вылинявшей, но чистой одежонке. Меня учили быть искренним и честным, и я старался быть искренним и честным; прежде чем научился видеть людей, я видел только самого себя.
Стыдно и больно вспоминать тот тихий вечер. Но я очень хорошо его помню…
— Чего ты святым прикидываешься! — крикнул я отцу, весь кипя ненавистью, которой и сам еще не понимал. — Чего ты прикидываешься честным! Все тебя давно раскусили, все!..
— Кто — все? — тихо спросил отец, а я еще не почувствовал, что он говорит как-то уж слишком тихо.
— Все — даже ребята у нас в классе всё знают…
— Ну и что же они знают?
— Знают, почему тебя уволили, вот! — задыхался я. — Мне все сказали…
Отец, перегнувшись через стол, вдруг ударил меня. Было больно, но сквозь слезы я видел, что щеки у него тоже мокрые. И, несмотря на это, я кричал осипшим от злобы голосом:
— Бей, бей!.. Ты только это и можешь — бить!
— Тебе всего десять лет, — тихо сказал отец.
Сгорбившись, он медленно вышел.
Вечером я лег с тяжелой от рыданий головой, включил покрытую газетой лампу и принялся читать «Павлика Морозова». Я читал эту книгу уже второй раз и уснул, уронив ее, не выключив света, и уже не слышал, как мать встала, погасила лампу и убрала книгу на полку, заложив страницу листочком бумаги. Вероятно, она погладила меня, когда укрывала, подтыкая мне одеяло под спину. Она всегда боялась, как бы я не простыл.