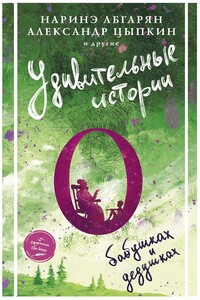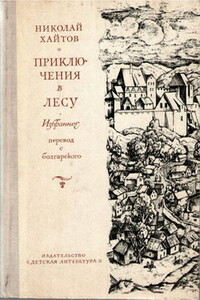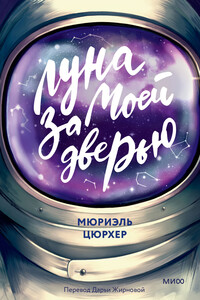Дни, что нас сближают | страница 69
Я не звонил ей три дня, но ждал, как собака, около телефона и, когда она позвонила, тут же схватил трубку. Услышав ее голос, я подумал: она поняла, что я ждал у телефона. Я чувствовал себя точно ребенок, разбивший дорогую вазу.
Она сказала, будто мы только что расстались:
— Можешь быть спокоен.
— За что?
— За все. Все уже позади.
Я понял, однако переспросил, и именно в тот момент в груди у меня снова стало пусто и холодно:
— Что — все?
— Все, — сказала она и засмеялась. — Ну, я тебе позвоню вечером.
Она не положила трубку, и я слышал ее дыхание. Потом спросил:
— Когда?
— Не имеет значения.
Мы помолчали. Потом она сказала:
— Я думала, что ты совсем меня не знаешь. Но ты меня… — Она запнулась. — Ты меня очень точно вычислил.
Я молчал, боясь, что разговор может оборваться, а потом тихо спросил:
— Ты любишь меня?
— Не глупи.
— Ты должна мне сказать!
— Вечером. Должны же мы будем о чем-то говорить вечером. Вот и будем говорить, что любим друг друга. Ну пока!
Она снова засмеялась и повесила трубку.
Я медленно положил трубку, поднял голову — с противоположной стены смотрели куда-то в сторону мои молодые родители, на этом снимке — мои ровесники. Казалось, они видели что-то такое, что было далеко, очень далеко позади меня — за стенами комнаты, за стенами города… Я смотрел на них бессмысленно — почти умиротворенный, готовый спокойно проспать ночь, а утром бодро вскочить с постели и отправиться по делам.
Уходя, я не взглянул на себя в зеркало. Конечно, это был всего лишь жест, я сыграл это, наблюдая за собой как бы со стороны. Но все равно я знал, что внутри, под выработанной ложью жеста, прячется что-то настоящее, что родилось от того холода в груди, может быть, презрение. Я хорошо знал это чувство и боялся его беспощадности. Я знал, как это больно — когда презираешь что-то, с чем ты связан навсегда.
Мучительно медленно выветривалось это в моих отношениях с отцом. Я возвращался к тому времени, когда мы должны были уезжать из Софии. Я был нервным ребенком, меня оберегали. Я привык к тому, что меня оберегают, обо мне заботятся… А сам видел только мрачное лицо отца. Меня не интересовало, почему он такой, просто я считал его нелюдимым, даже жестоким. Я убегал от него к маме, всегда готовой утешить меня и поддержать, хотя, в общем, ее чрезмерная заботливость порой раздражала.
Как же случилось, что я даже не подозревал о переживаниях отца — этого тридцатипятилетнего сильного мужчины, — когда он был уволен и отправлен в провинцию за что-то, что было мне непонятно?.. Мы уезжали, он разлучал меня с моими товарищами — этого было достаточно, чтобы считать его виновным.