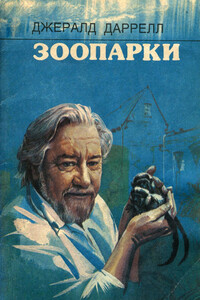Птицы, звери и моя семья | страница 104
Она вздохнула, но тут же просветлела:
– Скоро ведь чаепитие. Вы уверены, что не хотите остаться и перекусить?
Я ответил, что моя мать будет волноваться.
– Так-так. А зачем вы приехали? Ах да, сова! Мустафа, принесите гостю его сову, а мне принесите в гостиную кофе и чудесный рахат-лукум.
Мустафа принес картонную коробку, обвязанную бечевкой, и протянул ее мне.
– Лучше откройте дома, – посоветовал он. – Она совсем дикая.
В голове моей засела пугающая мысль, что если я прямо сейчас не уйду, то мне придется составить компанию графине за рахат-лукумом. Поэтому я искренне поблагодарил их обоих за подарок и направился к выходу.
– Я рада, что вы пришли, – сказала графиня. – Я просто в восторге. Приходите снова. Весной или летом, когда у нас будет больше разных фруктов и овощей. Мустафа замечательно готовит осьминога, просто тает во рту.
С радостью, сказал я, а про себя подумал, что перед этим надо будет три дня поголодать.
– Вот, возьмите. – Графиня сунула мне в карман апельсин. – Пока доедете до дома, наверняка захочется пожевать.
Когда я оседлал Салли и та затрусила по дорожке, графиня крикнула мне вслед:
– Будьте осторожны!
Стиснув зубы, я доехал до ворот, прижимая к себе коробку. Тут тряска меня окончательно доконала, я спешился, зашел за дерево, и меня вывернуло наизнанку, победно и отрадно.
Когда мы приехали домой, я поднялся к себе, развязал коробку, вынул оттуда сопротивляющуюся, щелкающую клювом сову и посадил ее на пол. Собаки, сбившиеся в круг, чтобы поглазеть на новое приобретение, тут же попятились. Они знали, на что способен Улисс в плохом настроении, сова же была раза в три крупнее. Писаная красавица. Спинка и крылья цвета золотистого меда с пепельно-серыми вкраплениями, грудка кремово-белая, без единого пятнышка, а ореол из белых перышек вокруг этаких восточных темных глаз казался хрустким, словно накрахмаленным, как елизаветинский плоеный воротник.
С крылом все обстояло не так плохо, как я боялся. Это был чистый перелом, и после получасовой борьбы, не обошедшейся без кровавых царапин, я сумел-таки наложить шину по всем правилам. Лампадуза – так я назвал сову, просто мне понравилось, как это имя звучит, – воинственно топорщилась перед собаками, не желала дружить с Улиссом, а на Августа Почеши-мне-брюшко глядела с нескрываемым презрением. Я решил, что ей будет легче обосноваться в темном укромном месте, и отнес ее на чердак. Одна из комнат там совсем крохотная, с единственным окошечком, покрытым таким слоем пыли и паутины, что солнце почти не проникает внутрь. Тихо и сумрачно, как в пещере. Здесь, подумал я, Лампадузе будет проще выздоравливать. Я посадил ее на пол, рядом поставил железную тарелку с нарезанным мясом, вышел и запер за собой дверь, чтобы сову никто не беспокоил. Вечером я пришел ее навестить с дохлой мышкой в качестве подарка и засвидетельствовал заметное улучшение. Она съела почти все мясо, а увидев меня, зашипела, защелкала клювом и расправила крылья, а глаза прямо-таки горели. Воодушевленный таким прогрессом, я оставил ее наедине с мышью и отправился спать.