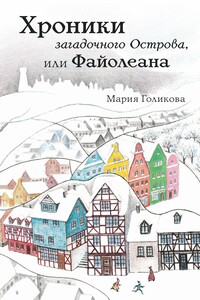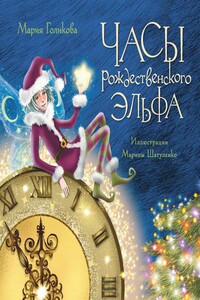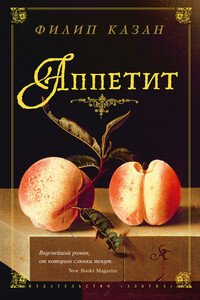Зима с Франсуа Вийоном | страница 21
Перед Жаном-Мишелем словно бы оказались две чаши весов: на одной лежало всё, к чему он привык, что хорошо знал, чему верил. А на другой — вопросы, которые давно его волновали, сомнения, смутные, но настойчивые, и стихи — невероятно живые, талантливые и свободные, несмотря на строгие рамки канона. Эти стихи звали за собой, как порой зовёт душу дорога, убегающая из тесных, неудобных, но надёжных городских стен куда-то в далёкую неизвестность… Жан-Мишель много размышлял об этом и был уже почти готов броситься в эту неизвестность, довериться ей. Его останавливал только вопрос о цене этой новой свободы, страх обмануться, опасение, не окажется ли такая свобода просто обманом, разрушением морали и нравственных правил? Что, если дурная молва о Вийоне права, а он, Жан-Мишель, ошибается?..
Заканчивался ноябрь. Короткие сумрачные дни Жан-Мишель посвящал учёбе, но каждый вечер возвращался к Вийону. Его стихи притягивали, как притягивает взгляд чернильная темнота ночного ноябрьского неба. В маленькой комнате Жана-Мишеля оплывала свеча, а там, за стенами дома, выл ледяной ветер, проникая в каждую щель и наполняя жилище холодом, напоминавшим о том, что всё когда-нибудь кончается… В это время меркнет свет и всё живое таится, с трепетом ожидая весны; только человек продолжает свой упорный одинокий путь от земного рождения к Божьему суду. Под низкими облаками кружат вороны, высматривая падаль или висельников, их крики режут сухой, колючий воздух; с пустынных полей за предместьями Парижа тянет близкой зимой, и всё вокруг напоминает о смерти — одежда, которая едва защищает от холода, утренняя изморозь, хмурые быстрые тучи, голые деревья, застывшая земля, бледные, худые, обветренные лица бедняков… Горе тому, у кого в эти дни нет крыши над головой и очага, чтобы обогреться; голодные волки ищут пропитания, а нищие — убежища на зиму. Припозднившимся прохожим лучше не ходить поодиночке, чтобы не получить в беспросветной ноябрьской тьме удар кинжалом из-за нескольких монет, звенящих в кошельке, и тёплого плаща.
Жан-Мишель несколько раз перечитал эту строфу, предпоследнюю в «Малом завещании». В ней мерцал особый свет, за который Жан-Мишель так любил унылый и мрачный ноябрь. Чем больше сгущается мгла над землёй, чем сильнее становится холод, — тем ярче разгорается в душе огонь радости, не имеющей ничего общего с хорошей погодой, удачей, богатством, благополучием и тому подобным… Дописана книга, и уже неважно, что нет денег на хорошее жильё, неважно, что холодный сквозняк задул свечу и замёрзли чернила в чернильнице, — сделано главное, пройден назначенный путь, а значит, можно спокойно отдыхать, потому что о дальнейшем позаботится Бог…