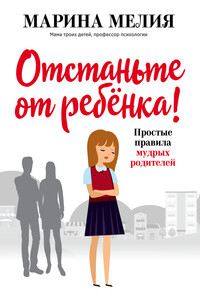Наши бедные богатые дети | страница 67
Когда мы ответим на основные вопросы, когда «картинка» сложится, как пазл, мы увидим, чего на самом деле хотим, какими силами и средствами достигаем поставленной цели и насколько это оправданно. А дальше будем думать, что делать — оставлять все как есть или что-то менять. Возможно, стоит понизить планку, ослабить режим, пересмотреть и смягчить многие моменты, спросить у самого ребенка, какие занятия ему по душе и что его по-настоящему увлекает.
Не подгонять, не торопить
Многочисленные исследования мозга, новые факты об особенностях его функционирования, публикации на эту тему провоцируют родителей и воспитателей начинать обучение детей как можно раньше. В первые три года жизни мозг действительно растет и развивается особенно интенсивно, он крайне чувствителен к влиянию извне. Именно поэтому все стараются не упустить столь благоприятный момент, однако при этом не задумываются о том, насколько адекватны выбранные способы воздействия и какими могут быть последствия.
Мозг — это не просто однородная масса нейронов, это сложная система, состоящая из множества подструктур, отвечающих за разные процессы. Подструктуры созревают не одновременно: например, сначала формируются отделы, отвечающие за органы чувств, движения и эмоции, за обеспечение энергией памяти, внимания, мышления, и только потом — отделы, обеспечивающие сложные функции контроля, речи, способность к чтению, письму.
Нейропсихологи подчеркивают: если нагрузка, которую мы задаем ребенку, входит в противоречие с актуальным процессом созревания мозга или опережает его, происходит своего рода «энергетическое обкрадывание» — мы как бы отводим энергию в другое русло. Когда мы пытаемся научить малыша двух-трех лет читать, писать и считать, мы перегружаем кору головного мозга, и это «истощает» подкорковые образования, замедляет процессы, которые должны активно развиваться именно в это время.
Выходит, не позаботившись о развитии корневой системы, мы пытаемся на неокрепших стебельках вырастить чудо-плоды, накачивая их всевозможными искусственными добавками. Поэтому маленькие интеллектуалы, демонстрирующие блестящие способности к литературе или математике, часто оказываются совершенно беспомощными, когда надо выполнить простейшие действия — застегнуть пуговицы или завязать шнурки.
Однажды я ждала подругу недалеко от детской площадки и невольно наблюдала за малышами-трехлетками и их мамами. Один из мальчиков молча копался в песочнице — строил домик. Когда подходил кто-то из детей, он предлагал им совочек, с интересом смотрел, что они делают, и был не прочь поучаствовать в общей игре. Второй ребенок прыгал, кричал, приставал к другим, мог исподтишка что-нибудь сломать, закатить истерику, даже ударить маму. Третий мальчик не обращал внимания на ровесников, все время крутился около взрослых, требовал к себе внимания, декламировал Пушкина, какие-то стишки на английском. Его мама буквально излучала гордость. При этом подруги явно сочувствовали маме первого мальчика: «По всем нормам ребенок в три года уже должен строить фразы». Но одни дети начинают говорить раньше, другие позже. Зато остальные навыки у «молчуна» адекватны его возрасту. Поэтому волноваться скорее стоило за других детей: второй мальчик демонстрирует агрессивное, деструктивное поведение, а у третьего налицо проявления нарциссизма.