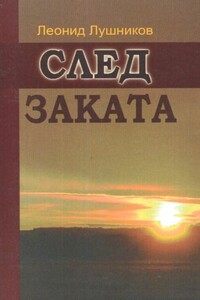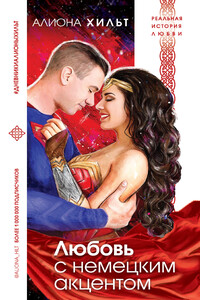Утренняя заря | страница 35
Сам Кесеи остался стоять. Он открыл портфель, в котором лежали какие-то бумаги, смена чистого белья и подаренный ему пистолет. Кесеи отошел немного назад и, подняв голову вверх, как бы ища на потолке подсказку, что же сказать для начала, решительно произнес:
— Прежде всего несколько слов обо мне самом. Освобождение Будапешта застало меня, больного, в подвале одного дома в Ференцвароше[9]. После тифа я с трудом вернулся к жизни — трех недель не прошло с тех пор, как я впервые смог, опираясь на палку, добраться до партийного комитета. Горком располагается на площади Кальмана Тиса, это теперь центр Будапешта. Вот туда я и направился с просьбой дать мне партийное поручение. «Работа тебе будет, — сказали мне товарищи, — готовится раздел господской земли. Партия посылает сотни своих членов на село». Я им на это отвечаю: «Вот жалость, такая жалость, что еще половина Задунайского края находится под немцами. Я ведь сам родом с берегов Рабы, если бы мне там делить землю бывших господ, то у меня и здоровье сразу же поправилось бы». Товарищи меня приободрили. «Так оно и будет, ты и будешь там землю делить! — сказали они. — Не успеешь до дому добраться, как продавцы газет уже будут выкрикивать: „Советская Армия прорвала линию гитлеровского фронта!“» Так оно на самом деле и было. Больше того, мне, товарищи, пришлось работу на курсах, куда меня направили, ускорить, чтобы не опоздать к севу… Думаю, для начала хватит. Пожалуйста, кто следующий? Кого я еще здесь не знаю?
— Кальман Кутрович, — встал с места сидевший у окна приземистый старичок с колючими усами и хитроватым прищуром глаз. Его красно-коричневое лицо было испещрено глубокими морщинами. Еще густые волосы (они так и затрещали, когда он засунул в них пятерню), но уже иссиня-белые, с тусклым блеском, были похожи на алюминий, покрытый капельками мороси. — Так вот… это… — начал он, но сразу же смешался, стал глотать слюну. Пот тек с него ручьями.
— Смелее, товарищ, смелее, — поторапливал его старый Бицо, хотя никто не упрекнул бы Кутровича за это «короткое замыкание». — Смелее, говорю я тебе. Мы тут среди своих.
— Да ведь… — тут Кутрович отпустил смачное ругательство, — косить легче, чем говорить. — Все засмеялись, а сам Кутрович — веселее всех, и сразу же у него развязался язык. — Изгнание, — сказал он, кивая головой, — вот что выпало на мою долю после венгерской коммуны… Земли у меня — ни одной пяди, арендовать запрещено, ни господин я, ни мещанин. И говорить со мной никто не желал. «Ну, Кальман, — сказал я сам себе, — либо ты сдохнешь с голоду, либо смоешься отсюда…» Была у меня лошадь по кличке Манци, при ней никудышная телега. У братьев вытребовал свою долю имущества. Да какая там доля? Кровать, стол, стул, шкафчик — вот и вся моя доля. С этим-то скарбом и тронулся я на Манци в направлении на Чат — это местечко такое под городом Мишкольцем, в области Боршод, там во время наступления на Тисе стояла моя батарея. Ведь я командиром был, командовал батареей во время революции девятнадцатого года. Потом в Чате, где мы стояли, познакомился я с девушкой, с дочкой хозяина квартиры. Бежике ее звали. Отец у нее добрый человек был, пастух. Мы с ним друг друга хорошо понимали, да и девушка эта, Бежике, мне сильно нравилась. Ну, если правду говорить, то и я ей тоже… Так вот туда я и поехал, товарищи, к ним… Ну, приезжаю я этак к вечеру — середина сентября идет, на проводах полно ласточек, — а девушка та, Бежике, брынзу мнет. Это, так сказать, сыр из овечьего молока. Перед ней доска, длинная такая, гладко обструганная. На доске — сыры, штук десять лежат, она слепила их и пошлепывала, чтобы окончательно форму им придать. Тут и говорить нечего: все сыры пропали, когда она меня увидела, все в пыль попадали — бедная моя Бежике доску-то толкнула, и все. Оно и неудивительно. Ведь подумайте только: ни письма, ни сообщения какого, ни открытки даже я ей не посылал — и вдруг вваливаюсь! Как снег на голову… Там я и остался, женился, потом дети пошли. Чего я только не перепробовал на той далекой чужбине, этого и сам господь бог не смог бы перечислить, если бы в учетчики подался… Ведь место-то все равно для меня чужое, хотя и жена у меня работящая, верная, хотя и детей народили. Так вот, как услышал я гул орудий со стороны Дебрецена, так и сказал жене: «Давай собираться в свою родную деревню. Барахлишко наше — на телегу. Дом мы снимали, землю тоже в аренду получали — чего тут еще жалеть? Придем домой, где находится могила моей матери, там я и выпишу себе землю, не может того быть, чтобы Советская Армия не вознаградила меня за изгнание и мои прежние заслуги». Судите сами, товарищи, правильно я думал? — С этими словами он сел, тщательно осмотрев перед этим кожаное кресло, а потом спросил, обращаясь прямо к Кесеи: — Ведь земля… награда — это ведь точно будет, можно быть уверенным, правда?