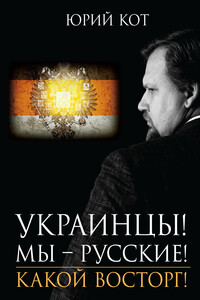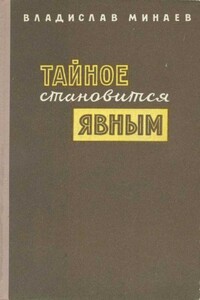На тонущем корабле. Статьи и фельетоны 1917 - 1919 гг. | страница 76
Слово несло жизнь, любовь, смерть. «Что меч перед словом?» — говорят кастильцы.
Действительно, мечом можно убить, но только слово воскрешает мертвых, вызывает воду из камня, останавливает течение светил.
Чтобы понять высокое назначение поэзии, надо забыть легкомысленные игры провансальских труверов, жонглировавших словами, потерявшими вес и силу. Лучше повторить заговор темного олонецкого знахаря, который он шепчет над строптивой коровой: «Господи Боже, благослови! Как основана земля на трех китах, на трех китищах как с места на место земля не шевелилась, — не дай ей, Господи, ни ножного лягания, ни хвостового махания, ни рогового бодания. Стой горой и дой рекой, озеро сметаны, реку молока. Ключ и замок словам моим».
Для современного человека в его жизни слово только передаточный аппарат, средство наиболее точного выражения его мысли. Кто в жалкой лаконичности нашей речи, подобной языку телеграмм и пошлой болтовне гостиной, в коммерческом кодексе газет и митингов распознает черты божественного слова? Только в немногие, исключительные по своей важности минуты жизни человек произносит слово как таковое, пытаясь им достичь того, перед чем бессильна ясная мысль.
Вдумайтесь в то, как мы повторяем молитву. Разве нам важен логический смысл просьбы или восхваления, а не их таинственная сила? Ведь «Отче наш» — это заговор. Мы заговариваем Бога, и каким прекрасным в своей древности является для нас темное «аминь» — замок и ключ, слово из слов.
Когда человек действует мыслью, он осуждает, порицает. Но высшее орудие, «бессмысленное» проклятие, только оно непоправимо рассекает цепь, связующую людей; когда увещевания, доводы рассудка бессильны, человек вспоминает наивные почти младенческие мольбы, ибо только слово может спасти от неизбежности.
В любовных признаниях, нежном шепоте, меж поцелуями двух влюбленных менее всего желания точно и ясно выразить степень и характер своего чувства, — каждое слово — приворотное зелье — действие, ранящий душу поцелуй. Имена, которыми крестят друг друга возлюбленные, почти никогда не взяты из святцев. Это магические формулы, и поэт Баратынский хорошо знал их силу, веря, что таким «своенравным» названием он после смерти призовет к себе из хаоса мертвую подругу, преодолев разлуку и смерть.
Молитва, бранный клич, мольба умирающего, любовные ласки — вот кельи, в которых хранится еще огнь слова. Это минуты, а из дней, годов он изгнан, и, бережно подхваченный поэтами, перенесен в стихи. Знаю, что сие покажется забавным, но повторяю: Сологуб и Иннокентий Анненский из томиков затрепанных выходят и ворожат над изумленной «любительницей» поэзии, как знахарь над бодающейся буренушкой. К прискорбию, иные поэты забывают о тайне цеха, они соблазняются легкой добычей мысли, перестают заговаривать и начинают уговаривать.