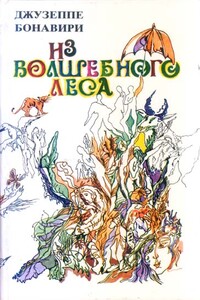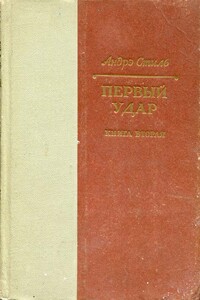Время, задержанное до выяснения | страница 70
— А что с этой звездой? — спросил Юзек.
— Помнишь, Юзеф, мы собирались вместе пойти в театр, но у тебя, как всегда, заболела голова, и мне пришлось пойти одной. А потом, после спектакля, мы с Мончкой и Профессором пошли погулять. Гуляли, пока не оказались возле памятника Мицкевичу, где было полно студентов. Тот тип, что меня допрашивал, показал мне фотографию. На ней памятник с нарисованной звездой и я, а рядом со мной еще несколько человек. «Узнаете себя?» — спросил он. Да, говорю. А что мне еще оставалось? Тем более, что я вполне прилично на этом снимке получилась. «Этого достаточно», — сказал он и записал мой ответ. «Чего достаточно?» — говорю. «Вы признали себя виновной», — сказал он. «Вовсе нет, — запротестовала я. — Я там была, но этой звезды в глаза не видела, не говоря уж о том, чтоб ее рисовать». — «Хорошо, — сказал он. — Тогда я внесу исправление в протокол. Я напишу, что вы не сделали этого собственноручно, а лишь принимали участие совместно с другими лицами». Я не стала спорить, потому что…
— Ты с ума сошла, Марыля! — крикнули в один голос Критик и Юзеф. — С самого начала и до самого конца ты вела себя как идиотка или как самоубийца.
— Эх, вы, умники! — засмеялась Марыля. — Занимаетесь литературой, а третьей возможности даже представить себе не можете. Я вела себя не как идиотка и не как самоубийца, а как человек, который собственными руками создает себе приличную биографию.
— Рассказывай, что было дальше, — перебил ее Юзеф.
— Потом, — продолжала Марыля, — меня расспрашивали обо всех знакомых из Кружка молодых: где мы встречаемся, как проводим время, ну и прочую дребедень. Они спрашивают — а я отвечаю и только диву даюсь, зачем им все это нужно.
— А мной они не интересовались? — спросил Юзеф.
— Тогда нет. Ни тобой, ни Критиком, ни Юзеком.
— А когда? — продолжал допытываться Юзеф.
— Подожди, не все сразу. Так вот, когда меня уже обо всем расспросили, когда я бумажек целую кучу подписала — тогда-то я и поинтересовалась, сколько мне дадут. А он говорит, не знаю, это только суд может решить, но на его, мол, взгляд, не меньше трех лет — а то и больше.
— И что было дальше? — торопил ее Критик.
— Да ничего. Посадили меня в кутузку и дали миску такой мерзопакостной баланды, что я, хоть и ела, потому что голодная была жутко, но только о том и думала, как бы не сблевануть. А просидеть три года — это значит навернуть больше чем тысячу мисок такого вот супчика. Нет, думаю, это не для меня. Уж лучше жить без биографии и писать антироман, чем вычеркнуть три года из своей бесцветной и бессодержательной жизни. И тут я стала требовать, чтобы меня еще раз допросили. Они снова задавали мне те же самые вопросы, только на этот раз я все отрицала. Их это нисколько не разозлило, но когда я спросила, можно ли мне теперь идти домой, сказали, что нет, что это зависит не от них, а от суда, который решит, когда я говорила правду — в первый раз или во второй. И опять засадили меня в ту же кутузку. Проревела я целую ночь и весь следующий день, и ничего в рот не брала, потому что там такой гадостью кормят, что, честное слово… А койка жесткая, и днем на ней лежать нельзя, а можно только сидеть на табуретке. Потом явился какой-то новый хмырь и сказал, что меня освободят, если я уговорю тебя принести ему рукопись вашей повести.