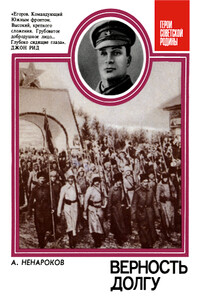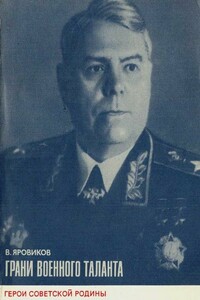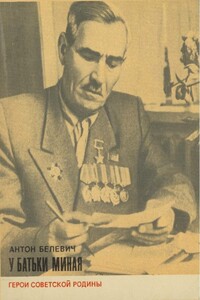Алеша Джапаридзе | страница 49
Проходят сентябрь, октябрь, ноябрь. Река Енисей давно замерзла. Трудно Алеше. Не привык он к суровой зиме, но ничего, держится. Худо обстоит дело с одеждой, а с деньгами — еще хуже. Однако больше всего его угнетает одиночество, оторванность от мира, от кипучей революционной деятельности.
И вот однажды Варо Джапаридзе получает от мужа письмо: «Мне необходимо самое малое: сто грецких орехов и очки. Все это при наличии псалтыря на мое имя».
Варо сразу смекнула, о чем идет речь: он просит паспорт и деньги для побега. С присущей ей энергией и настойчивостью взялась она раздобыть все просимое мужем.
С большим трудом достает паспорт. Сто рублей дала племянница мужа Ванто Джапаридзе, по крохам собравшая эту сумму. С помощью Джавайры Тер-Петросян — сестры бесстрашного революционера Камо — типографские рабочие-переплетчики мастерски заделывают паспорт и деньги в обложку Евангелия, и Варо посылает все это в Сибирь Алеше, освобожденному к тому времени из-под ареста.
Село Каменка, неподалеку от Енисейска. Проходят недели. Алеша ждет посылку, а ее все нет и нет.
Уже наступает новый, 1916 год. Джапаридзе потянуло к перу (вспомнилось увлечение юности!), и он пишет новогодний рассказ. Довольно красочно описывает сибирскую зиму, село Каменка, затерянное в самой глуши Российской империи. Необычное было это село. В нем много людей разных национальностей и почти все — ссыльные.
Автор остается верным глубоко осмысленному интернационализму, понимая, что сила революции в единстве всех народов. Он особо подчеркивает это обстоятельство. «Здесь был уже знаковый нам „граф“, — пишет Алеша, — в нем, конечно, не было ничего графского. Внешностью, поведением, одеянием это был настоящий горьковский тип. Волна жизни забросила его сюда с балтийских берегов. Кто знает, откуда бросила сюда та же самая волна жизни и остальных? Кроме кавказца, которого ссыльные прозвали „князем“, здесь были представители почти всех уголков огромной России.
На некоторых еще арестантские шинели, иные не могли забыть, что совсем недавно они были одеты в еще более позорное одеяние. Многие из них помнили еще кандальный звон… И вот все эти ссыльные собирались встретить вместе Новый год. Затянули песню. Голоса не спелись — большинство не умело петь, но души и сердца, чувства и устремления этих разных людей объединяли их. А потом звучали песни разных уголков, разных мест, разных народов, песни труда и лишений, горестей и печалей…»