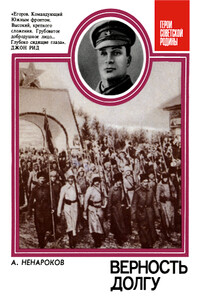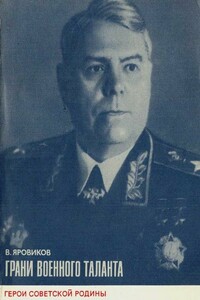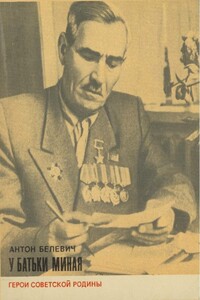Алеша Джапаридзе | страница 11
Прокофий до сих пор помнил события, потрясавшие его душу. Однажды под отчаянные крики соседки полицейские уводили с ее двора единственную корову — кормилицу многочисленной семьи. И за что? Только за то, что бедная женщина не имела денег, чтобы уплатить налог. А в другой раз Пакия наблюдал, как приезжие чиновники описывали за долги имущество у дедушки Вано, которому уже перевалило за сто. Год назад Вано заложил в банке клочок своей земли и виноградник, дабы послать единственного внука учиться…
Этому внуку Пакия откровенно тогда завидовал: ему уже давно самому хотелось учиться. Но школы в их селе не было, а поехать в Тифлис — нечего и думать: мать и так еле сводила концы с концами. Мечта об учебе пока оставалась мечтой.
Только в редкие минуты, когда мать была свободна от домашних хлопот, она сама учила сына, как могла, читать и писать. Бывало, покажет написание какой-нибудь буквы, и он старательно и неумело выводит ее. Мать тяжко вздыхает:
— Ох, Пакия, хотела бы я отправить тебя в школу!
Как-то летней порой в Бокву приехал родственник отца Пакии, Симон Джапаридзе. В Кахетии, в селении Сацхениси, он заведовал сельскохозяйственной школой. Случайно Симон увидел племянника за книгой. Поговорил с ним, задал несколько вопросов и вдруг вышел в другую комнату, где находилась мать. Прокофий помнит их разговор, услышанный через дверь:
— Слушай, Анна! — начал дядя Симон. — Ты знаешь, какой способный у тебя сын?
— Что толку в способностях, когда не имеешь возможности отдать его в школу?
— Я возьму Пакию к себе.
— Да благословит тебя бог за добрые намерения, Симон! Но где взять деньги, чтобы платить за учебу?
— Об этом не беспокойся. Я надеюсь, что смогу определить его на казенный счет.
Так была решена судьба Прокофия. Однажды утром дядя и племянник уселись в «линейку» и отправились в далекий путь. До села Сацхениси — более ста верст.
Школа, которой руководил дядя Симон, на несколько лет стала пристанищем для юного Джапаридзе. Это было учебное заведение для детей небогатых дворян. Кроме преподавания общеобразовательных предметов здесь обучали еще и ремеслу. Чувствуя себя равными по положению, учащиеся крепко дружили между собой.
Но вот подоспел 1894 год — год окончания школы. Тепло распрощавшись с дядей Симоном, Прокофий уехал в Тифлис, чтобы там продолжить свое образование.
Не сразу привык он к этому городу, «городу роз и песен», как его называли в то время. Тифлис показался Прокофию огромным. Бесчисленные улицы и узкие переулки, застроенные деревянными, преимущественно двухэтажными, домами с балконами и верандами, так и кишели народом. Медленно проезжали по улицам скрипучие арбы, стучали копытцами ослики, нагруженные древесным углем или кувшинами мацони, продавцы которого певуче восхваляли свой товар. А мимо мчались на породистых лошадях, в наемных фаэтонах важные господа с дамами… Чуть ли не на каждом углу стояли усатые городовые с шашками на боку, слышались гнусавые звуки шарманки и надрывный голос дудуки. Даже на центральной улице, называвшейся Головинской, распевали песни, словно в деревне. Воображение юноши поразили громады церквей и соборов, особенно древних.