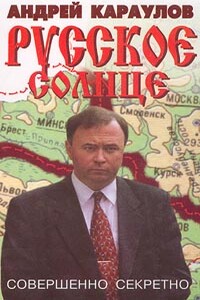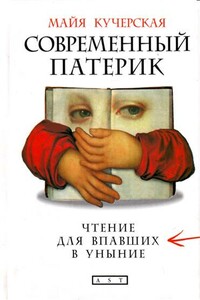Русский ад. Книга вторая | страница 101
— Поэтому, опер, я нас — всех-понять не могу! Если и дальше будет так, как сейчас, сколько народу из России свалит, — ты в курсе? Я думаю: миллионов двенадцать, не меньше…
— Офигеть.
— В Гражданскую, когда бежала интеллигенция, 2,5 миллиона. И все уже тогда в один голос орали: «Величайшая трагедия! Россия теряет генофонд!..» А тут — 12 миллионов. Это как?!
Денис хотел отшутиться, но сказал вдруг очень честно:
— Все равно, товарищ полковник, я воевать пока не хочу, — признался он. — Пока молод — не хочу! Я сейчас удачу ищу. И мне фиолетово… Чубайс там… не Чубайс…
— А вот я когда-нибудь его пристрелю, — зевнул Шухов. — Вот увидишь, лапуля… я — воюющая сторона.
Денис шутливо вытянулся «по струнке»:
— Готов быть «вторым номером», товарищ полковник! — отрапортовал он.
Шухов взял в руки графин, ехидно взглянул на гнилую воду, и Денис вдруг почувствовал, что Шухов сейчас совсем не шутит.
55
Настоящее перо — перо писателя — как эффектная дирижерская палочка. Если писатель дирижирует миром, если каждая глава его будущей книги звучит как симфония, а сама книга — это целое мироздание с вращающимися светилами и особой музыкой сфер… такая книга никогда не умрет.
Отец Тихон постоянно делает зарисовки. Книга? Да. Литература? Еще нет. — Его несвятые святые старцы прекрасны. Они — вне времени. Священники всегда вне времени. Ум теряет надежду до конца проникнуть в их мир: уж слишком чужим кажется он на первый взгляд, да и сами старцы никогда ничего не объясняют — они не любят, если им докучают вопросами, ведь вопросы к ним есть всегда…
Отцу Тихону очень хочется заглянуть в их мир поглубже, с головой опуститься в этот колодец, бережно взять в свои руки их старые, высохшие ладони и остаться с ними наедине. Но он разбросан: здесь, в Москве, люди рвут его на части, миллион дел сразу и нет у него времени заняться литературой…
Старец — это человек, «берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и свою волю, — говорил Достоевский. — Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотречением. Этот искус, эту страшную школу жизни отрекающий себя принимает добровольно, в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою для того, чтобы наконец достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли…»
Отец Тихон уверен: из его зарисовок, сделанных на коленке огрызком карандаша, когда-нибудь получатся настоящие рассказы. Сейчас он живет как бы начерно, в суете, ежевечерне откладывая занятия литературой на завтрашний день, на более поздние сроки, на старость, ибо настоящая литература — это бесконечность, ведь космос никогда не заканчивается и каждая из звезд все время манит, загадочно манит к себе…