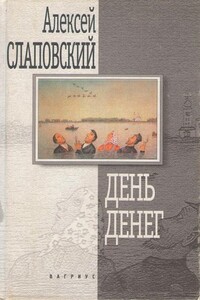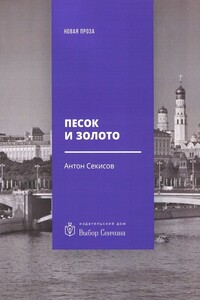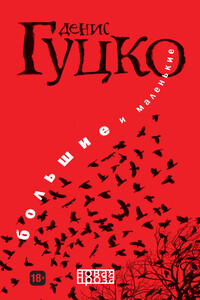Жмых | страница 130
— Поговори у меня, тварь!.. Я тебе все зубы выбью!
— Оставь её! — коротко приказал сеньор Ламберти.
Видя, как дрожит плеть в стиснутом кулаке Альвареса, как выступают капли пота на его побелевшем лице, я с ужасом ожидала удара. Но безрассудная девица и не подумала угомониться.
— Ну, давай, давай, скотина! Ударь меня! — закричала она. — Покажи, какой ты сильный!
— Не нарывайся! Пожалеешь… — процедил Альварес.
— Я сказал, оставь её! — рявкнул сеньор Ламберти.
Альварес, скрипя зубами, подчинился. Девушка, вскинув голову, победоносно улыбнулась. А я бы на её месте, видя такую лютую ненависть в глазах капатаса, поостереглась: непобеждённый, но униженный враг — самый опасный.
Потоптавшись возле нас ещё минуты две, Ламберти с капатасами умчались прочь.
— Кто эта девушка? — спросила я у Лукаша. — Никогда не видела её раньше…
— Бьянка, — ответил конюх. — Она работала раньше на фазенде покойного дона Аугусто, а потом Жозиас забрал её оттуда и она стала жить с нами… Бедные мои Жозиас и Карло! Теперь их наверняка повесят… Я же говорил, нинья Джованна: увидеть синюю молнию — к большому несчастью!..
…Бьянка Маседо. То, что мне удалось разузнать о ней, попахивало уличным балаганом на венецианской площади…
Никто не знал, откуда она родом. Историю своей жизни эта девица рассказывала всякий раз на новый лад: одним говорила, что в Бразилию приехала вместе с родителями из Сицилии, но потом они умерли и оставили её, одинокую, несчастную, без сентаво за душой; другим — что её похитили из отчего дома бандиты и продали в наложницы важному господину, то ли какому-то торговцу, то ли судье; третьим — что она дочь вождя индейского племени… То, что легенды были одна нелепей другой, девушку не смущало: она даже не пыталась, чтобы в глазах слушателей они выглядели правдоподобными — будто сказки на ночь малым детям рассказывала.
…Она отличалась от других подёнщиц, привыкших опускать глаза, едва услышав грубый окрик. Своенравная и непокорная, точно дикая кошка, она была из тех женщин, от которых мужчины сходу теряли голову. В округе её прозвали «дьявольским наваждением». Слава о её красоте гремела по всему Эспириту-Санту.
Не устоял перед её чарами и покойный Аугусто Ламберти. Не знаю, чем привлёк строптивую красавицу сын моего конюха, после ареста которого она ходила чернее тучи — кроме рваной рубахи и залатанных штанов у парня не было ничего, но будь её воля, она без труда могла бы стать сеньорой.
Рассказывали, что старый дон Аугусто, объезжая окрестности, впервые увидел её у ручья, когда она стирала, стоя на широком плоском камне. Негромко напевая, молодая женщина полоскала бельё и не замечала, как из-за деревьев на её крепкую, налитую грудь, выпиравшую из глубокого выреза холщовой рубахи, пялится незнакомец. Уронив какую-то тряпку, женщина подобрала юбку, засунув край подола за кушак и обнажив до бёдер стройные ноги, и медленно побрела по воде босыми ногами, пока не отыскала запутавшуюся меж камешков вещицу, подняв её, неспешно и тщательно отжала. И тут её глаза встретились с глазами дона Аугусто. «Эй, ты! — крикнул сеньор Ламберти. — Получишь три рейса, если разденешься». Но Бьянка лишь презрительно расхохоталась: «Ишь, пёс старый, чего захотел!».