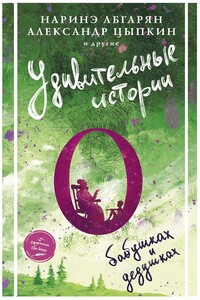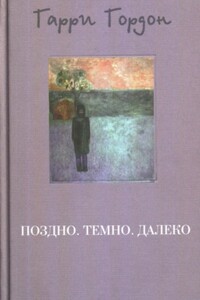Жужукины дети, или Притча о недостойном соседе | страница 8
Он не имел плана действия, и мы это знали. Когда он обнажил провода и подключил к нам невысокое напряжение, дрожь пробежала по нашим жилам и подобие слез проступило на нашей внутренней, влажной, обращенной внутрь дома поверхности. И видит тот, кто может это видеть все, глубокое содрогание дома было ответом ему. Мы увидели этого человека, который в малой своей черепной коробке, под шерстистыми волосами, сохраняет все, что мы пытались так долго вырастить и запомнить о нем. Мы отделились на миг от него. И строки проступили на нашем лице, мы видели это, и видели его, поднявшего взгляд к потолку. Это сладостный миг отъединения, когда сознание не слепо, но видит все вместе и отдельно. И молнии строк, отделившиеся, замелькали между им и нами. Но что было потом, что стало с ним-нами, он-мы пока еще не сможет сказать на родном языке.
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МИРАЖ
Велосипедный позвоночник, где он отзовется, встряхнувшись от росы и потеряв все свои части? Он отразится в наших ногтях, как тогда, когда ты вывел его из-под ветхой арки сарая. Он сверкнул в мгновенном перламутре твоих ногтей. Даль невидимой реки в долине зазвенела в его металлических трубах и звонках. Ты вел его в поводу, ты нес его на весу, этот никелированный крендель, который всю нашу даль отразит и покроет. Уже автомобильное глаголанье девятисотых годов проглянуло голодным зовом за горизонтом, но мне, думал ты, и велосипедный мираж, сверкнувший над берегом реки, так внове, так дорог, что не променяю я его ни на какое будущее. Ты вел его в поводу, пробираясь к пыльному тракту, который ведет на Рославль. Ты не любил заглядывать в будущее, хотя трезвые и прочные очертания виделись ему там. Это велосипедный остов, рама Всемирной выставки, на которую натянут холст балагана. И там-то мы увидим, что будет там. От Спаса до Рославля ему было три часа быстрой велосипедной езды. В промежутке, в Кузьминичах, он выпивал крынку молока и сразу садился опять в седло, чтобы успеть вовремя в гимназию в Рославле. Капустные листы мялись и скрипели сапожным скрипом под ногами, когда он долго пробирался от сарая до тропинки. Или это октябрьский морозец припомнился ему, когда он жарким майским утром выводил велосипед, похлопывая его по седлу? Он грустно думал, что истинные мысли его, столь глубоко отличные от мыслей свинцовых газет, никому не известны, и нет сил их запечатлеть. Потому что все равно никто не поймет его не только вместе с ним самим, с потемневшей кое-где тужуркой, со сверкающими кое-где деталями велосипеда, так что стоит ли думать вообще отделенно от всего этого? Мы пытаемся намекнуть на все это улыбкой, когда произносим слова строками из газет. Но кто нас поймет? Будущее, если явится и грянет сейчас, что в нем можно будет узнать о нас? Нет сил таких, чтобы это запечатлеть.