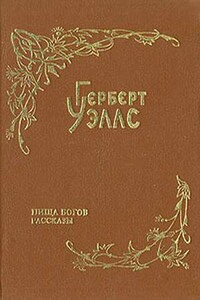Литературная Газета, 6631 (№ 07/2018) | страница 33
«По свидетельству современников, для Андропова как руководителя был нетерпим шаблон, стереотип и формальное отношение к делу, – читаем заключения профессора Васильева. – В его работе преобладал напряжённый интеллектуальный труд, требующий постоянного поиска новых форм и методов работы с учётом конкретной обстановки и условий. Оперативные задания и легенды, подготовленные «Могиканом», отличались изобретательностью и индивидуальным творчеством. Для нелегальной работы «Могикан» выработал правило: только умелое сочетание смелости, осторожности и точного расчёта позволяют получить положительный результат».
Неизвестные факты: Андропов решался посылать на оккупированную финнами территорию дочерей-сыновей раскулаченных и репрессированных. Таков советский феномен верности Родине, которая важнее личных обид! Посылал даже финнов левых взглядов, прибывших в СССР до войны из Финляндии, Канады, США. За годы войны зафиксировано только два факта предательства со стороны подполья, организованного Андроповым. Но показательно, что о своём вкладе в подпольную работу сам Андропов не распространялся. В большом отчёте в ЦК ВЛКСМ, датированном августом 1944 г. – «О работе комсомола Карело-Финской ССР в дни Отечественной войны», нет раздела о подпольной работе.
…Очень сложным был в Карелии национальный вопрос. По свидетельству древнерусских летописей, карелы с IХ в. входили в Киевскую и Новгородскую Русь, в перечне участвовавших в походах русских князей на Византию читаем: «русь, корела, чудь…» Не подвергались, как инородцы в других странах, насильственной ассимиляции, сохранив за тысячу лет (!) свой язык финно-угорской группы и свой мудрый эпос «Калевала». При оккупации финнами какая-то часть карельского населения потянулась к родне по языку... Ещё сложнее было также финно-угорцам по языку – ижорцам или ингерманландцам, то бишь почти «германцам». По законам военного времени все народы, близкие по крови стране-агрессору, подлежат высылке подальше от фронта. Но часть ижорцев-ингерманландцев бериевское ведомство сослало на реку Лену. Автор исследования приводит трогающий душу документ – письмо ингерманландки о трагическом пути семьи в Якутию, о потере близких…
В только что освобождённой от финнов Карелии ходили слухи и о возможной депортации карел. Партийный руководитель республики Г.Н. Куприянов настаивал на том, что слухи небеспочвенны, ставя себе в заслугу блокировку депортации. Изучение архивных документов позволило автору книги представить собственную логично и увлекательно изложенную интерпретацию «карельского вопроса». Как и другого острого вопроса того периода – об «особой войне» Финляндии против СССР, когда она определяла себя не как «союзница Германии», а как «соратница по войне», ведущая будто бы «отдельную», «свою» войну с СССР. (Но сжимали кольцо блокады вокруг голодающего Ленинграда оба «соратника», дружно и безжалостно!)