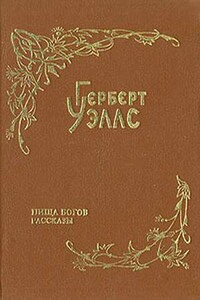Литературная Газета, 6627 (№ 01-02/2018) | страница 42
Еще одно воплощение свободы – знаменитая фотосъемка у Ричарда Аведона. Даже на человека в возрасте или закомплексованного зрителя сцена не производит пугающего впечатления, но зачем она? Неужели все, к чему артист стремился, это возможность по-всякому сниматься? Он хотел расширить возможности для творчества, что он и получил. Я не слышала о политических заявлениях с его стороны. Так сложилась жизнь, такое было время. Но благодаря Нурееву репертуар Кировского театра был в той или иной степени переносен на парижскую сцену, и Мариус Петипа пришел с ним к себе домой – в страну, где он не ставил балетов. Верность русской классике, тому, чему его научили, сопровождала его всю жизнь, этим он и прославился.
– Что же главное в Рудольфе Нурееве?
– То, что должно быть сохранено во времени и истории, – это необыкновенность природного танца, сочетание русской классики с национальным темпераментом, который в нем жил. Он прошел очень хорошую школу, обучаясь в Уфе у педагога Алика Бикчурина, выпускника Ленинградского хореографического училища, а затем в Ленинграде у Александра Пушкина. Тот обрамил его талант оправой классической школы. Во имя магии Нуреева можно ставить спектакли. А в премьере бытовизм выбранных фактов биографии не позволяет передать особенности творчества. На Западе в то время таких исполнителей не было, подобной техникой не владели, а в России в ту пору она была развита. Рядом с Нуреевым были яркие танцовщики – Юрий Соловьев в Ленинграде, Владимир Васильев и Михаил Лавровский в Москве. Чуть позже появился Михаил Барышников, тоже сделавший мировую карьеру. Вместо того, чтобы понять природу и индивидуальность яркой личности, сделавшие его историей, авторы раздувают жизненную ситуацию, в которой оказался артист.
– Балет «Нуреев» построен как синтетическое действо с элементами драматического театра. Возможно, хореографические постановки будут постепенно приобретать такой формат?
– Рассказы о лотах аукциона, письма друзей и доносы на Нуреева, зачитываемые в спектакле, – это не столько драматические образы, сколько текстовое подтверждение известных фактов. Авторы «Нуреева» поставили перед собой задачу, воплощение которой я оценила не как драматическое действо, а как не балет.
Балет начинался внутри оперы, и синтетический синкретический ракурс был ему присущ, но сегодня он не нуждается в нем. Хотя включение, например, вокальных или хоровых сцен дает очень многое звучанию спектакля. Но нельзя сказать, что это единственное направление развития балетного искусства.