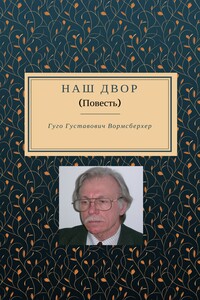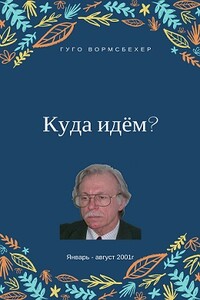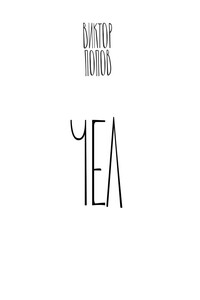"Шаг влево, шаг вправо..." | страница 10
Писали, иногда на русском языке в трудармейские газеты, но чаще без всякой надежды на публикацию, Фридрих Больгер, Эдмунд Гюнтер, Андреас Крамер, Давид Вагнер, Александр Реймген.
Окончилась война. Горячие надежды трудармейцев, добившихся в лагерях права работать не для "искупления вины", а, как и весь советский народ, под лозунгом "Всё для фронта, всё для победы!"; надежды трудармейцев, что своим героическим трудом, тысячами и тысячами своих жизней, отданных делу победы, они показали, как несправедливы были по отношению к ним не только обвинения указа 1941 года в пособничестве врагу, но даже подозрения в возможности такого сотрудничества; надежды советских немцев на снятие с них всех обвинений, на возвращение в родные места, на восстановление их автономии и национальных районов — эти надежды потерпели сокрушительный крах. Победа не означала для них восстановления справедливости: они были оставлены там, где работали, только вместо колючей проволоки, вышек и конвоя была введена другая система надежного удержания в "колонне" — спецкомендатура и спецпоселение. "Шаг влево, шаг вправо" означали теперь уже не выстрел без предупреждения, а "всего лишь" двадцать лет каторжных работ…
Трудармия просуществовала в основном до 1947 года, режим спецпоселения — по 1955 год. За все эти годы у советских немцев не было ни одной газеты (до войны только в автономной республике выходила 21 газета), не вышло ни одной книжки (до войны только за три года было издано 555). Практически единственной книгой, которая оставалась в народе, была Библия — книга, священная не только утешительной, поддерживающей религией, не только списком дорогих имен (Библия была как правило фамильной книгой, в нее вписывались из поколения в поколение имена, даты рождения, крещения, конфирмации и смерти всех предков); эта книга была священна, может быть, всего больше потому, что была единственной книгой на родном языке. Мог ли догадываться неистовый и вдохновенный Мартин Лютер, совершая свой нечеловеческий подвиг по переводу Библии, какое поистине материальное значение будет иметь каждое, им из гущи народной взятое, пылающее ее слово через века, в неведомой ему далекой Сибири?..
Осталась позади война, минула и спецкомендатура. Советская немецкая литература по-прежнему не подавала признаков жизни. Да и как ей, после таких потерь, было подавать их? А потери были катастрофические. Только один из советских немецких писателей погиб непосредственно на войне — Христиан Эльберг, павший в рядах народного ополчения в 1942 году под Москвой. Остальных, лишенных права сражаться с врагом, ждала иная участь.