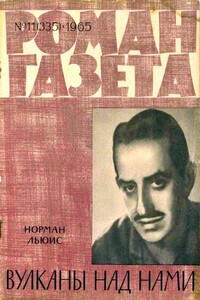Зримая тьма | страница 22
Я поставил свой вездеход на площади Конкордия и, заметив парашютистов, поспешил снять ротор распределителя и засунуть тряпку в воздушное сопло карбюратора. Добираясь после подобных поездок до Либревиля, я обычно испытывал потребность что-нибудь выпить. Так уж действовало на меня даже небольшое нервное напряжение. В какой-то мере поездки в Либревиль доставляли мне удовольствие. Это немного успокаивало нервы, и в течение одного-двух дней мир казался немного лучше. Вот и эта поездка вызвала страшную жажду. Взглянув на часы и рассчитав, что у меня в запасе полчаса, я пересек площадь, вошел в кафе «Коммерс», сел за столик, за которым уже сидело несколько солдат, и заказал большую рюмку самого популярного здесь вина анисет.
Кафе было переполнено солдатами, главным образом парашютистами в просторном маскировочном обмундировании. Многие солдаты были с автоматами, в красных, синих и черных беретах. Перед железной решеткой, которой в случае необходимости закрывался вход в кафе, дефилировали патрули с полицейскими собаками в намордниках. На каждого гражданского человека здесь приходилось не меньше десятка солдат. Вообще-то гражданскими лицами в кафе, кроме меня и официантов, были лишь девицы легкого поведения — испанки с прическами словно из медной проволоки, одетые в узкие бархатные платья. За двумя столиками у стены, отдельно от французов, сидела группа солдат Иностранного легиона. Это были розовощекие, белотелые немцы с красными руками и белой, просвечивающей из-под коротких волос кожей на голове; они негромко переговаривались гортанными голосами.
За моим столиком сидели трое парашютистов; один из них — преждевременно состарившийся сержант — оказался напротив меня. Я было дал ему лет сорок, но, заметив твердые мускулы его шеи и подбородка и ясные глаза, тут же скинул лет десять. На щеках сержанта, словно племенная татуировка, виднелись глубокие морщины, а кожа казалась смазанной йодом.
Сержант передал официанту алжирский банкнот в пять тысяч франков и сказал: «Обменяй на французские франки, я еду домой». Французских франков у официанта не оказалось, и я вызвался выполнить просьбу сержанта. Через десять минут я уже знал его биографию. Он изъяснялся короткими, решительными фразами, причем его голос, лишенный всякого выражения, звучал так однообразно, словно он мысленно читал книгу, где бесстрастным армейским языком излагались его собственные впечатления и оценки.
Пять лет он прослужил в Индокитае и три — в Алжире; ему нравились война, вьетнамские женщины («такие миниатюрные!») и суп по- китайски и не нравились Алжир, арабы и Иностранный легион. Впрочем, мне показалось, что его симпатии и антипатии не отличаются особым постоянством. Он и его товарищи вели самую простую, какая только мыслима, жизнь — жизнь профессиональных солдат, и все эти долгие, полные превратностей годы, казалось, подвергались какой-то специальной процедуре умерщвления духа. На лице у него застыло выражение неестественного покоя, какое бывает у человека, одурманенного наркотиками, словно он не мог отрешиться от покорности и смирения, приобретенных в годы пребывания среди пагод Вьетнама. Эта ли покорность, бесконечные ли годы солдатской жизни, но что-то вытравило из него все чувства, и сейчас он был лишь тенью человека.