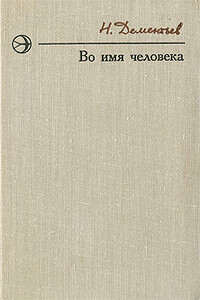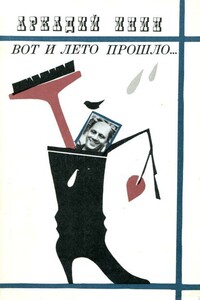История моей любви | страница 36
— Так оно и было! — подтвердил он, все прямо глядя мне в глаза.
— Где отец с мамой сейчас?
— В морге на Литовской, — он опять взял меня за локоть и придвинулся, следя за моим лицом.
— Любил Гриша свою Клавушку без памяти! — сказала тетя Шура. — Да и она его!..
— Могу я их видеть?
— Можете, — он все сильнее сжимал мою руку. — Мотоцикл у меня…
— Где?
— Вот, — он положил вторую руку на руль мотоцикла.
— Довезете меня?
Он кивнул, поспешно стал отстегивать брезент, закрывавший коляску. Я села, он спросил:
— Как вы себя чувствуете?
— А как вы бы себя чувствовали на моем месте?
— Да, простите… — И он резко включил двигатель.
А как мы с ним ехали до больницы, я не помню.
Отец и мама лежали на соседних столах в подвале, закрытые простынями. Сержант все держал меня за локоть, а я приоткрыла простыню и поглядела на маму. Лицо ее было в кровоподтеках, но даже сейчас, даже мертвая, мама была все так же красива. А отец будто улыбался даже слегка. Может, он успел понять, что дети в автобусе остались живы и что их с мамой смерть, значит, не, напрасна?
И тут я впервые заплакала, поцеловала отца с мамой.
Потом со мной разговаривал какой-то рыжий толстый мужчина, он оказался следователем, а еще после тот же сержант отвез меня обратно домой на своем мотоцикле.
Я походила по нашим комнатам; теперь они были уже совсем другими, чем всего несколько часов назад еще сегодня утром… И красивые гардеробы, и лакированный пол, и чистота подчеркнутая были теперь ни к чему.
После оказалось, что я позвонила домой Павлу Павловичу Куприянову, у которого отец когда-то начинал работать в бригаде, его старинному другу. «Оказалось», потому что я не могла вспомнить, как звонила, а у нас в квартире вдруг появились и Павел Павлович с женой, и Петька Гвоздев, подручный отца, и братья Силантьевы из отцовской бригады, и начальник цеха длинный Слонов, еще кто-то… И мне сделалось легче, а потом я даже заснула, когда Марфа Кондратьевна, жена Куприянова, уложила меня в кровать, сама села рядом.
Проснулась от звонка будильника, который тоже не могла вспомнить, когда завела, и автоматически прислушалась, не встали ли уже отец с мамой. Но в комнате родителей было тихо, и я разом вспомнила все… И тут уж наплакалась я, поняв наконец, какое страшное горе случилось.
Потом поняла, что все-таки полегче мне будет, если я пойду на работу, умылась, оделась — завтракать уже было некогда — и пошла. И проработала благополучно до самого обеда. Только Степан Терентьевич спросил меня: