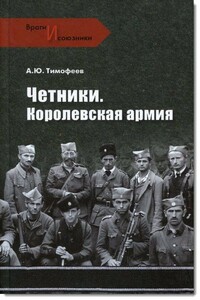Русский фактор. Вторая мировая война в Югославии. 1941–1945 | страница 45
При этом проблема экономии бумаги путем использования новой орфографии, очевидно, была исключительно важной, что видно на примере постоянного сокращения размеров изданий. В 1941 г. «Русский бюллетень» выходил на 10 страницах, а его преемники, «Новый путь» и «Ведомости Русского корпуса», соответственно, на 4 и 6, что опять в сумме давало 10 страниц. После объединения этих двух изданий в одно появилось «Русское дело», которое сначала выходило на 6 страницах, а с № 9 и вовсе сократилось до 4 страниц.
При этом периодические издания служили оружием пропаганды для сплочения рядов эмиграции, поддержания ее духа и направления общественных настроений в нужное русло. Журналист «Нового времени» с русским православным именем Василий и звучной немецкой фамилией Розенберг в издании, посвященном годовщине газеты, с гордостью констатировал, что русское периодическое издание представляет собой «…тип идейной газеты обновляемой Европы… творит общественное мнение… защищая и объясняя те духовные ценности, которые… считает необходимыми для культурного, морального и материального развития народа и нации»[163]. Словом, военные издания русских эмигрантов в аспекте ежедневной политики (глобальной и локальной) были рупором немецкой пропаганды, дословно переписывая или пересказывая сообщения из немецких или местных сербских газет.
Подобное положение дел просто не укладывалось в голове у многих эмигрантов, традиционно привыкших видеть в печатных изданиях рупор общественной мысли. «Сидя на белградских мансардах или в горном бункере», они нередко писали глобальные политические статьи, которые, вероятно, были отзвуками ожесточенных дискуссий и уединенных, но не менее напряженных, размышлений о судьбах России и ее будущем. Увы, эти «политические» статьи, как и статьи «гиперкритические», сразу же попадали в мусорную корзину редактора[164]. Столкнувшись с таким потоком советов «Риббентропу, Розенбергу и Власову», редакция была вынуждена призвать читателей не писать «передовиц», а присылать «корреспонденции с мест осведомительного характера… о культурной работе… бытовые картинки, литературные наброски, штрихи и заметки»[165], не забывая, что от «критики Россия пропала»[166]. Таким образом газета (как пропагандистское издание военного времени) пыталась защитить стратегический ресурс информационного пространства — «бодрость»[167]. Этот подход приводил к тому, что остро нуждавшиеся в прорыве пропагандистской блокады читатели пытались (порой не слишком успешно) читать издания «между строк», усматривая зловещие предзнаменования даже в том, что к постановке готовится пьеса Л.Н. Толстого «Живой труп»