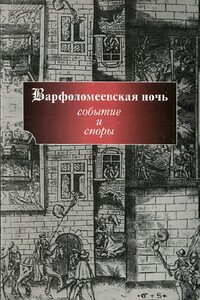История Франции | страница 31
ской, дочери Ярослава Мудрого. Русская королева родила долгожданного сына, дав ему греческое имя, диковинное для Западной Европы, — Филипп. Его также успели короновать при жизни отца — в возрасте семи лет. Характерно, что на коронации Филиппа I (1060—1108) отсутствовали герцог Нормандский и граф Шампанский, его непосредственные соседи, зато прибыли южане — герцог Аквитанский, граф Овернский, граф Ангу-лемский, виконт Лиможа. Они тем охотнее признавали священный авторитет короля, что он не мог угрожать их реальной власти.
Еще один несомненный успех Капетингов заключался в том, что в целом им удавалось сохранять союз с церковью, в отличие, например, от несравненно более могущественных германских императоров. Этот союз лучше всего выражался в таинстве миропомазания. Клирики настаивали, что именно миропомазание есть источник власти короля и его достоинства. В это время распространилась легенда, гласившая, что, когда св. Ре-мигий короновал Хлодвига, небесный посланник — голубка принесла в клюве склянку со священным елеем. С тех пор этот сосуд («святая ампула») хранился в Реймсе и чудодейственным образом оказывался полным всякий раз накануне очередной коронации. Но во времена Капетингов постепенно распространяется вера в то, что и, помимо церкви, король обладает чудодейственным даром и может лечить золотушных больных своим прикосновением. В исследовании, посвященном «королям-чудотвор-цам», выдающийся французский историк Марк Блок показал, как благочестиво собираемые легенды укрепили это верование, ставшее одним из особых атрибутов королей Франции.
Сеньоры и вассалы. Французское королевство, как и весь христианский Запад, оказалось затронутым процессом феодальной раздробленности. Основу военного могущества первых Каролингов по-прежнему составляли свободные земледельцы, обязанные служить в войске. Власть на местах осуществляли назначаемые императором графы и виконты. Постепенно они превращались в наследственных самостоятельных правителей, «приватизируя» публичные (военные, судебные и административные) функции. В свою очередь, независимости от графов добивались виконты, в дальнейшем самостоятельность обретали коменданты крепостей и замков — шатлены.
Ополчение уходило в прошлое, да и самих свободных людей становилось все меньше: они вынуждены были отдавать себя под покровительство какого-нибудь монастыря или могущественного господина. Все большую роль играли профессиональные воины, спаянные отношениями верности или дружбы со своим вождем. Короли награждали своих верных воинов за службу земельными и иными пожалованиями. Такие же «верные», или вассалы, имелись у большинства знатных людей, а подчас даже у епископов и аббатов. Вассал приносил своему сеньору (от лат. senior — старший) особую клятву на священных реликвиях. Первые упоминания о вассальных присягах относятся ко временам Меровингов, однако лишь в условиях распада империи такая личная связь человека с человеком распространилась на всех, кто носил оружие. Какой-нибудь простой воин подчинялся виконту, виконт — графу, граф — герцогу не потому, что один видел в другом представителя государства, выразителя монаршей воли, а оттого, что их связывал между собой ритуал вассальной клятвы — оммаж.