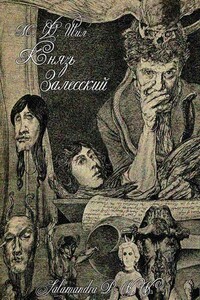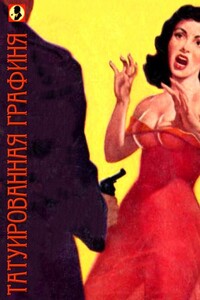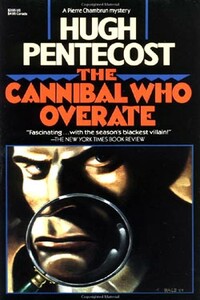Виноватые и правые | страница 20
Люба мне показалась эта песенька: про меня, думаю, поет… ко мне прикладывает. Вот и после того, как услышу ее, хошь и другой кто поет, так чуть не заревлю… ровно льдом сердце-то обложит!.. Вот подхожу я к нему, сама не своя.
— Бог на помочь, — говорю, — Иван Васильевич! — Это, язык-от сам собою ляпнул. А он положил, этак, топор-от, поклонился, да и молвил:
— Покорно благодарим, Ирина Прохоровна, — говорит. — Как это? — говорит.
— Да за осек, — говорю, — скотину прогонила, так опять домой ползу; — а сама остановилась. — Устала, — говорю. Это опять сам о себе язык ляпнул. Только то правда, что в ту пору как косой подсекло мои ноженьки… инда трясусь вся, а саму всю, как огнем, палит. А он и молвил:
— Присядьте, говорит, отдохните!
— Нет, — говорю, — Иван Васильевич, не заругалась бы матушка.
— Почто, — говорит, — ругаться! — Говорит это он, а сам берет меня за руку, да и садит возле себя.
— Ой, — говорю, — Иван Васильевич! а сама сажусь… и охота, и страшно! Дивно лишь то мне показалося: моя рука ровно в огне горит, а у него холодная, ровно лягуша. Уж после того вдолги говорю ему: „Почто это у тебя, Ванюшка, рученьки-то такие холодные?“ а он говорит: так, видно…
Ну, только как села я возле него, ровно прилепило меня. Вот те Христос, ваше б-дие, хоть бы и захотела встать, не встать бы. Тут, это, он как обнял меня рукой-то, — меня вконец из ума вышибло. Схватила его за шею-то, да и ну целоваться; да не так, как на игрищах целуются, а другомя как-то. Что после того деялось — и самой толком не рассказать, да и не надо. Только в тот час, видно, продала я дьяволу тело свое белое».
Здесь Ирина задумалась, как будто собираясь с мыслями, но скоро снова начала.
— А только что ты не говори, ваше б-дие, а Государевич знает… — При последнем слове она понизила голос.
— Что знает? — спросил я.
— Ну, знает по-своему-то, — отвечала Ирина. — При тебе ведь коренья-то обыскали у него. А то как же, как села я возле него, ровно приковало меня. А опосля того он и сам мне много раз говаривал, что знает… Есть у него, ваше б-дие, и трава-сила, сами видел на руке-то. Ни один человек не устоит супротив ему. Вон, проворен Ванька Негодяев Долговязый, товарищ-от его: даром что молод, а во всей волости не выищется такой. А как связался одинова с Государевичем, так нет. Давай, говорит… это, Ванюшка-то, говорит… кто кого перебьет? — Давай, говорит, это, Государевич-от, а сам ухмыляется. Начинай, говорит, хошь ты первый. Ладно. Вот это ляпнул его по рылу-то Ванюшка, а он лишь пошатнулся, да после подглазницу разнесло. А как Государевич чикнул потом Ванюху, так тот как щи пролил… ровно кряж повалился! Есть опять у Государевича и приворотное. Говорю я одинова ему: Ванюшка, говорю, ведь ты приворотил меня? — Приворотил, говорит; а хошь, отворочу? Подумала я, это, подумала, да нет, говорю: мне, Ванышка, без тебя тоскливо станет! — Ну так как хошь, говорит. О другу пору говорю опять: Ванюшка! не воруй ты, говорю: грех ведь великий воровать! А что, говорит, грех? Попу покаюсь, да и все тут. А мне, говорит, воровать-то просто: как ворую, говорит, так у меня все хозяева спят, все собаки спят, — хошь топором руби, не услышат, говорит.