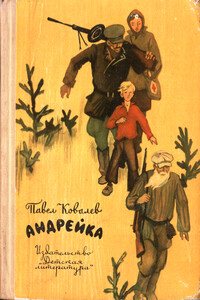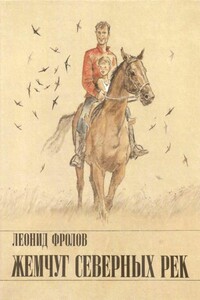Красный ледок | страница 4
Отец немного успокоился:
— Брат, брат… Брат или сват — все равно. А вот что таких, — кивнул отец головой в мою сторону, — сбивает с толку да против отца настраивает… Это уж неизвестно что…
Тут я снова не сдержался:
— А я сам все понимаю! Сам записался и сам работать буду, если…
— Я тебе запишусь, — снова кинулся отец ко мне. А мать тут как тут — стала между нами и уговаривает:
— Опомнись, Прокоп! Стыд какой!
— Пусть, пусть бьет, — набрался я мужества. — А я свое делать буду. Свое. Комсомольское. Колхоз — новое дело, наше дело! А кто против, того…
Но я не договорил. И видимо потому, что не все еще как следует понимал.
— Ну, ну, погрози, сынок, этого только и жди теперь от вас. — Отец явно смягчался. Он постепенно утихал, садился на скамейку и набивал трубку табаком. Руки его дрожали, и табак рассыпался по скамейке, по полу. Он ни на кого из нас не смотрел, а все подсыпал и подсыпал табаку и набивал пальцем трубку как можно плотнее.
Забыв прикурить, он вдруг спросил у матери:
— Так что, и ты за колхоз?
И не смотрел на нее, боясь, видно, услышать нежелательный для себя ответ.
На какое-то время в хате установилась тишина.
Мать моя тогда была неграмотной женщиной и не очень разбиралась в том новом, что только-только нарождалось в жизни. Ей было нелегко. Меня она жалела. Брату Игнату симпатизировала, так как он был довольно грамотным и тоже часто ездил на заработки в Донбасс. Знала, что в последний раз приехал оттуда коммунистом. Но, думалось ей, муж ведь тоже свой человек и, как ни говори, более близкий. Не хотелось ей обижать отца. Я чувствовал это. Понимал ее состояние.
Отец тем временем прикурил и, подняв глаза на мать, повторил:
— Так, спрашиваю, и ты за колхоз? А?
Как-то по-крестьянски, просто и сердечно, мать ответила:
— Это уж ваше, мужское дело…
Мне и этого ответа достаточно было. Все же она не против колхоза, это было ясно. Значит, отец со своим решением не вступать в колхоз остается в одиночестве.
Он сильно, раз за разом, затягивается, в трубке слышится даже треск, и хата наполняется синим, едким дымом. Идет отец к двери и со злостью плюет на веник, будто тот во всем виноват. Потом, ничего не говоря, выходит в сени, громко хлопнув дверью.
Мать подходит ко мне, задирает рубашку и смотрит на мою исполосованную спину.
— Я тебе жиром натру, — говорит.
— Не надо, — отмахиваюсь я и снова берусь за книгу. Читал я тогда все, что попадало под руки. Читал днем и вечером, утром и ночью, при лунном свете даже. Читал в любую свободную от работы минуту. Это, между прочим, не только матери, но и отцу нравилось. Не раз он говорил кому-нибудь из своих тихо, чтоб я не слышал: