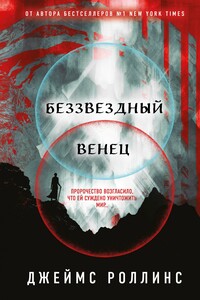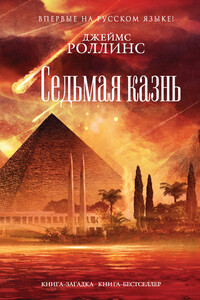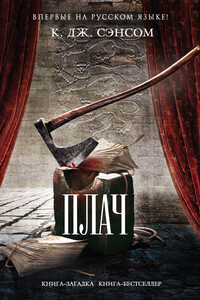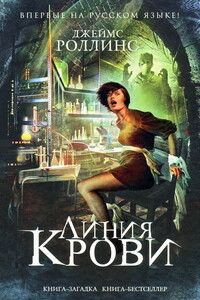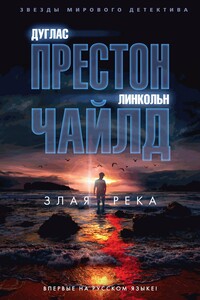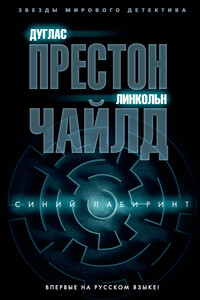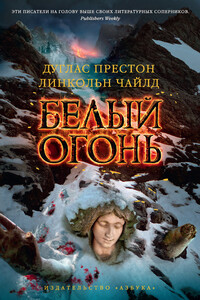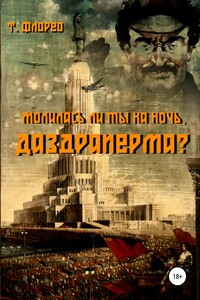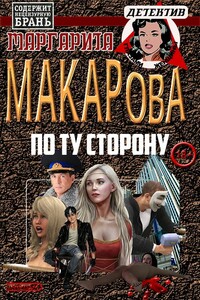Волчья луна | страница 95
Друг до чего-то докопался. Видимо, поэтому вчера вечером он не взял с собой записную книжку. И встретиться он хотел не для того, чтобы о чем-то спросить Логана, а для того, чтобы поделиться с ним своими находками.
Пытаясь проанализировать столь неожиданное и удивительное заключение, он прошелся по столу блуждающим взглядом. Теперь он остановился на экране компьютера. На мониторе были открыты два документа, содержание каждого напоминало какую-то научную статью. К собственному изумлению, Логан увидел, что эти статьи написаны Чейзом Фивербриджем.
Не сводя глаз с монитора, он опустился на стул и начал читать. Обе статьи, очевидно, появились в не слишком почтенных изданиях: вероятно, лучшие, если не единственные научные органы, где еще принимали труды Фивербриджа.
Он прочитал обе публикации от начала и до конца. Первую статью, фактически некое извлечение, а не полноценное описание исследовательской работы, издали в конце прошлого года, и в ней описывалось, как Фивербридж планировал доказать в конечном итоге, что определенные химические элементы лунной атмосферы являются непосредственной причиной «лунного воздействия». Во второй и последней статье, опубликованной в нынешнем феврале, рассматривались вопросы трансформационной биологии и возобновления роста: к примеру, виды макрофагов, позволяющие саламандрам восстанавливать утраченные конечности; или имагинальные диски[25], благодаря которым гусеницы превращаются в бабочек, даже когда ферменты разрушили большинство их тканей. Статья завершалась размышлениями о потенциальных способах использования ДНК животных для воздействия или даже непосредственной модификации ДНК человека и его генетического кода и вероятных возможностей ускорения данного процесса в лабораторных условиях.
Логан откинулся на спинку стула. Нет ничего удивительного в словах Лоры Фивербридж о том, что ее отец стал объектом губительного презрения. В первой публикации смутно отражены недавние опыты Фивербриджа с качественным воссозданием лунного света и его влиянием на поведение, которое он видел воочию, но именно вторая статья – с ее рассуждениями о неестественных трансформационных последствиях – безусловно, и сделала его объектом самых язвительных насмешек. Вероятно, обстрел строгой академической критики заставил его пересмотреть столь радикальные гипотезы и после своего неудавшегося самоубийства и мнимой смерти вернувшийся в каком-то смысле к жизни ученый, умерив аппетиты, возобновил свои натуралистические исследования, сосредоточившись на доказательстве тезисов его первой статьи.