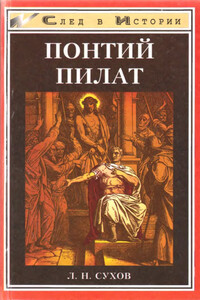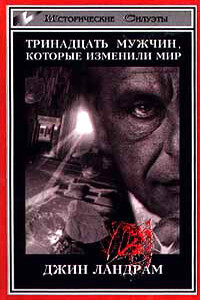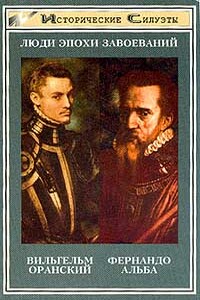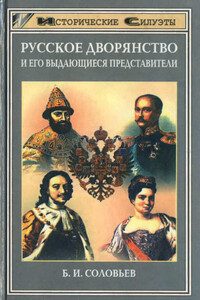Исторические силуэты | страница 42
Рядовое шляхетство, детище «Табели о рангах»[59], опиралось на личную выслугу; пожалованные дворяне как русские, так и заезжие иностранцы, одинаково не были связаны ни историческими преданиями, ни медленной трудовой служебной карьерой; это были люди без прошлого, люди «случая», как говорили в прошлом веке, люди быстрых и блестящих карьер и столь же внезапных паданий. Их притязания опирались просто на веру в личным талант и личную удачу.
Познакомимся поближе с указанными общественными слоями и общим характером их взаимных отношений.
Родовитые потомки допетровского боярства, все эта Долгорукие[60], Голицыны[61] и т. п., испытав на себе влияние преобразовательной эпохи, тем не менее, сохранили многие типичные черты поздних потомков старинной наследственной аристократии. Они являлись бережливыми хранителями исконных преданий. Они готовы были приспособить эти предания к требованиям нового века. Но они не могли поступиться их сущностью, их основным содержанием. Старая боярская знать издавна привыкла делить с носителем верховной власти труды государственного управления в форме участия в государевой Думе, в форме так называемого думного сидения. Что отворяло перед служилым человеком Древней Руси двери государевой Думы? Во-первых, порода, во-вторых, государево назначенье. Думный чин жаловали или, как говорилось тогда, «думу сказывали» по постановлению государя; но государь в своих назначениях сообразовался с местническими отношениями и с родовитостью происхождения. Государь делал выбор, но уже из готового материала, известных родовитых фамилий; а материал для его выбора подготовлялся местническими счетами. Сущность местничества состояла, как известно, в необходимости совпадения служебного старшинства с родовым старшинством служилых фамилий. Местнические правила не ограничивали формально свободу государевых назначений. Но, как обычай века, вошедший в плоть и кровь всего тогдашнего общества, они неизбежно подчиняли себе и самого государя, который по своему личному убеждению нашел бы странным и неестественным нарушить местнический распорядок, входивший неизменным элементом в обычное течение московской жизни[62]. И вот почему государь постоянно руководился местническими счетами при своих назначениях, и ют почему в Думе обыкновенно сидели члены только тех знатных фамилий, которым принадлежало старшинство по их породе. Так формировался постепенно наследственный, замкнутый слой думных фамилий, тех, «которые в Думе живут». Плотной стеной они окружали трон. Непосредственное участие в верховном руководительстве государственною жизнью сделалось их фамильным преданием, основной чертой их политического существования. Не стоять у кормила власти значило в их глазах умереть политическою смертью. С легкой руки подьячего Котошихина, писателя XVII века, описавшего состояние России в царствование Алексея Михайловича