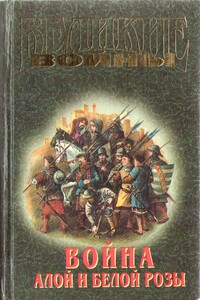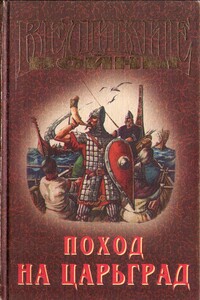Ливонская война | страница 94
— Доконал, — спокойно сказал Дмитрий, но ноги мужика вдруг взметнулись вверх — он перевернулся через голову, подмял под себя пса. Рык его стал прерываться, глохнуть…
— Узнай… — Казалось, старый боярин хотел крикнуть, чтоб посильней взъярить пса, но сил на крик у него не хватило, и получился лишь полустон-полушепот.
Мужик поднялся на ноги, изнеможённо покачнулся и, едва сделав шаг, упал лицом в окровавленный снег рядом с задушенным псом.
5
Лишь проводили масленицу, как снова взялся мороз. К третьему дню поста так настыло, что звон заутренних колоколов уже не расплывался над землёй, а улетал стремительно в небо и осыпался оттуда частым щёлком, словно по застывшему небу хлестали бичами.
Старый Хворостинин, услышав этот странный звон, сказал своему домашнему дьячку, читавшему ему в спальне по утрам псалтырь:
— По мне звонят… Ин как! Будто в колоду горохом.
— Студёно, батюшка, — пропел дьячок.
— Собороваться нынче буду.
— Аки угодно, батюшка.
— Кого призовём?..
— Кого повелишь, батюшка. Архангельского протоиерея…
— Гундос. Левкия — от Чудова…
— Левкий, батюшка, с царём на брани.
— Жаль. Левкий освятит[42], помирать не терпится.
— От Успения — Перфилия…
— Возгря[43].
— От Благовещенья?..
— Благовещенцы Сильвестром провоняны. Елевферия от Новоспаса, что на Крутицах… Поезжай.
— Далеченько, батюшка… Лють морозная… Исстудим попа. Призовём от Николы Драчевского, не то от Вознесения…
— Поезжай. Возьми сани с верхом… Шубы… Покровы… Елевферию хочу душу вверить. К обедне воротись…
— Аки велишь, батюшка, — поклонился дьячок.
— Погоди… Сыновей призови…
Дьячок ещё раз поклонился, вышел. Хворостинин изнеможённо откинул голову на подушки, прислушался.
— Звонят, — шепнул он самому себе, закрыл глаза и уложил на груди свои иссохшие руки.
Хрястко, как льдины в ледоход, сшибались и рассыпались тяжёлой капелью последние, уже не частые удары колоколов, и вместе с ними, удар в удар, надрывно билось под скрещёнными руками его сердце. Удары колоколов становились всё реже и глуше, и сердце всё реже и глуше стукало в его груди. Удар — и совсем нестерпимо дожидаться другого… Второй — и кажется, что до третьего уже не дожить.
Колокола стихают, стихают…
Хворостинин снял руки с груди, из последних сил упёрся ими в подушки, приподнялся, громко сказал:
— Смерть, где ты? Покажься!
Тихо качнулось длинное пламя единственной свечи, стоявшей у его изголовья, вместе с ней качнулся зелёный полумрак…
Колокола смолкли, а сердце его забилось часто-часто, словно высвободилось из каких-то пут. Хворостинин упал на подушки, крепко зажмурил глаза.