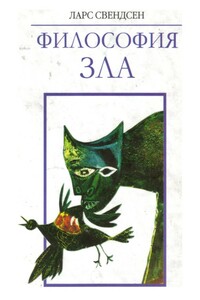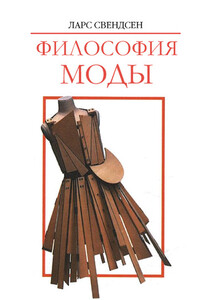Философия философии | страница 58
У философов по-прежнему сохраняется желание видеть связи между различными сторонами нашего знания о мире и опыта взаимодействия с ним. Задача философии состоит не только в том, чтобы изучать отдельные явления, но и в том, чтобы видеть связь этих явлений с другими явлениями, а также учитывать более широкий контекст, в котором эти явления существуют. Все явления можно исследовать с различных точек зрения, или перспектив. Но эти перспективы не образуют единого целого – между ними имеются системные противоречия и нестыковки, которые затрудняют достижение системного понимания. Поэтому философия должна заниматься критическим изучением всего, что только можно, в том числе таких явлений, которые обычно принимаются как данность, по умолчанию, и пытаться затем выстроить их максимально связное целое.
Проблема заключается в том, что, судя по всему, на сегодняшний день всю сумму знаний человечества невозможно объединить в непротиворечивую и однородную систему. Картина мира в современных естественных науках не согласуется с гуманитарными идеями современной культуры, поскольку в естественных науках отсутствует представление о нормативности, смысле, цели и т. д. Величайшие научные открытия последнего времени заставляют нас думать, что наука – единственный надежный источник знаний о мире. Как следствие вся гуманитарная область знания кажется зыбкой, и это угрожает нашей идентичности и нашим ценностям. Решение этой проблемы заключается в том, чтобы настаивать на сохранении обеих перспектив и считать их взаимодополняющими.
Окружающий мир в нашем повседневном восприятии может радикально отличаться от того, каким он предстает в научной картине. Мы видим твердые объекты там, где субъядерная физика видит скопления элементарных частиц. Мы ощущаем как мысли нечто, что нейронаука считает электрическими импульсами в нервных клетках. Многие считают, что мир науки самый «настоящий», а наш повседневный опыт является более или менее иллюзорным. Так, к примеру, лауреат Нобелевской премии по физике Артур Эддингтон указывал рукой на стол и утверждал, что это не настоящий стол, а скорее комбинация атомов и пустот. Как справедливо заметил в ответ на это Густав Гемпель, объяснение должно быть убедительным. А объяснение, которое дает Эддингтон непосредственно наблюдаемому нами столу, убедительным не назовешь. Пожалуй, наилучшим выходом будет считать позицию элементарной физики и непосредственного наблюдателя комплементарными, или взаимодополняющими. Наш повседневный опыт восприятия мира, который Гуссерль называет «естественной установкой», не очень хорошо согласуется с научными представлениями. Мы продолжаем считать стол твердым объектом и по-прежнему возлагаем на окружающих ответственность за их мысли и действия (а не просто считаем их заложниками нейрофизиологических процессов). Когда Раскольников в «Преступлении и наказании» убивает старушку процентщицу топором, можно объяснить этот поступок тем, что нейроны в его мозгу генерируют заряд, который приводит к возникновению нервных импульсов и передаче их в руки Раскольникова, в результате чего мышцы сокращаются и производят действие, опуская топор на голову старушки. Такой взгляд более чем справедлив. Но это лишь один взгляд из возможных. Проблема в том, что он не учитывает этических аспектов поступка Раскольникова. Другая возможная перспектива – рассматривать убийство старушки именно как